Эпистолярный роман без счастливого конца
Отношения Марины Цветаевой и Бориса Пастернака – это одна из самых трагичных страниц русской поэзии. А переписка двух великих поэтов – это намного больше, чем письма двух увлеченных друг другом людей. В юности их судьбы шли как будто параллельно, и во время редких пересечений не трогали молодых поэтов.
Марина Цветаева./ Фото: libkam.ru
У них было много общего. И Марина, и Борис были москвичами и почти одногодками. Их отцы были профессорами, а матери – талантливыми пианистками, причем, обе – ученицами Антона Рубинштейна. И Цветаева, и Пастернак вспоминаЛИ первые случайные встречи как нечто мимолетное и не значительное. Первый шаг к общению сделал Пастернак в 1922 году, который, прочитав «Версты» Цветаевой, пришел в восторг.
Он написал ей об этом в Прагу, где она в тот момент жила с мужем, Сергеем Эфроном, бежавшим от революции и красного террора.
Борис Пастернак./ Фото: rus-poetry.ru
И их эпистолярный роман то сходил на нет, то вспыхивал с новой страстной силой. Борис Пастернак был женат, Марина была замужем. Известно, что Цветаева хотела назвать в честь Пастернака своего сына, который родился в 1925 году. Но она, как сама писала, не посмела ввести свою любовь семью; мальчик был назван Георгием по желанию Сергея Эфрона, мужа Марины. Супруга Пастернака, Евгения Владимировна, безусловно, ревновала мужа к Цветаевой. Но обеих женщин ждало событие, которое примирило их в этой щепетильной ситуации: в 1930 году Пастернак ушел от жены к красавице Зинаиде Нейгауз.
«Наши жизни похожи, я тоже люблю тех, с кем живу, но это доля. Ты же воля моя, та, пушкинская, взамен счастья».
Из письма Цветаевой Б. Пастернаку.
Уязвленная Марина тогда говорила одной из своих приятельниц, что, если бы им с Пастернаком удалось встретиться, то у Зинаиды Николаевны не было бы шансов. Но, скорее всего, это была лишь ее иллюзия. Борис Леонидович очень ценил комфорт, и новая супруга была не только очень красивой, но и домовитой, она окружила мужа заботой, делала все для того, чтобы ничто не мешало ему творить. Своим огромным успехом в те годы Борис во многом обязан жене.
Марина Цветаева с дочерью Ариадной./ Фото: myshared.ru
Марина же, как многие талантливые люди, была неприспособленной к быту, она маялась от неустройства и никак не могла выкарабкаться из бедности, которая преследовала ее все годы нахождения в иммиграции. В 1930-е годы по воспоминаниям Цветаевой, ее семья жила за гранью нищеты, так как супруг поэтессы не мог работать по причине болезни, и Марине со старшей дочерью Ариадной приходилось тащить быт на своих плечах.
«Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно… Сегодня ты в таком испуге, что обидела меня. О, брось, ты ничем, ничем меня не обижала. Ты не обидела бы, а уничтожила меня только в одном случае. Если бы когда-нибудь ты перестала быть мне тем высоким захватывающим другом, какой мне дан в тебе судьбой»
Из письма Б. Пастернака Цветаевой.
Все это время Цветаева отчаянно мечтала встретиться со своим «братом в пятом времени года, шестом чувстве и четвертом измерении». Пестернак же в это время жил в достатке и даже богатстве, он был обласкан властью и купался во всеобщем почитании и обожании. В его жизни уже не было места для Марины, он был страстно увлечен новой супругой и семьей, и при этом, не забывал поддерживать оставленную первую жену и их сына. И все же, свидание Марины Цветаевой и Бориса Пастернака состоялось.
Письма, письма, письма. ../ Фото: literature-archive.ru
../ Фото: literature-archive.ru
В июне 1935 года в Париже, на Международном антифашистском конгрессе писателей в защиту культуры, на который Пастернак прибыл как член советской делегации литераторов. Зал рукоплескал ему стоя, а Цветаева скромно присутствовала там как рядовой зритель. Однако, эта встреча стала, по словам Марины, «невстречей». Когда два этих талантливейших человека оказались рядом, им обоим вдруг стало понятно, что говорить не о чем. Несвоевременность всегда драматична. Эта встреча Цветаевой и Пастернака была именно несвоевременной – состоявшейся не в свое время, и, по сути, никому из них уже не нужной.
«… В течении нескольких лет меня держало в постоянной счастливой приподнятости всё , что писала тогда твоя мама, звонкий, восхищающий резонанс её рвущегося вперёд, безоглядочного одухотворения. Я для Вас писал «Девятьсот пятый год» и для мамы — «Лейтенанта Шмидта» Больше в жизни это уже никогда не повторялось…».
Из письма Б.Пастернака Ариадне Эфрон.
Как бы сложились их судьбы, если бы свидание случилось раньше? Нам не дано этого знать. История не терпит сослагательных наклонений. Жизнь Цветаевой в итоге зашла в тупик, из которого она решила выйти через петлю, покончив жизнь самоубийством в августе 1941 года. Затем настало время, когда и баловень судьбы Пастернак попал к ней в немилость. В конце своей жизни он познал все те тяготы, которые сломали Марину – опалу, гонения от властей, травлю коллег, потерю друзей. Он умер в 1960 году от рака легких. Однако, два этих великих человека оставили после себя уникальное поэтические наследие, а еще – письма, наполненные любовью, жизнью и надеждой.
Знаю, умру на заре! На которой из двух,
Вместе с которой из двух – не решить по заказу!
Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!
Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!
Плящущим шагом прошла по земле! – Неба дочь!
С полным передником роз! – Ни ростка не наруша!
Знаю, умру на заре! – Ястребиную ночь
Бог не пошлёт на мою лебединую душу!
Нежной рукой отведя нецелованный крест,
В щедрое небо рванусь за последним приветом.
Прорезь зари – и ответной улыбки прорез…
– Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!
М. Цветаева
Источник: Культурология.РФ
Диалог поэтов: Борис Пастернак и Марина Цветаева
Эпистолярный и поэтический диалог Бориса Пастернака и Марины Цветаевой начался летом 1922 года и продолжался до конца их жизни. Их переписка, стихи, посвященные друг другу, интертекстуальные связи, свидетельствующие о том, сколь разнообразны были формы этого диалога, наконец, факты биографии, отражающие характер их взаимоотношений, не раз являлись предметом изучения в работах литературоведов и критиков (см.: [ Век… 12]). Человеческие и творческие связи двух поэтов чаще всего исследуются, так сказать, с позиции Марины Цветаевой, что вполне закономерно. По словам В. Швейцер,
в жизни Цветаевой отношения с Борисом Пастернаком явились уникальными, не похожими ни на какие другие <…> Можно с уверенностью сказать <…> что для нее они были значительнее, чем для Пастернака <…> Была ли то страсть или дружба, творческая близость или эпистолярный роман? Все вместе, неразрывно, питая и усиливая одно другое [Швейцер: 359-360].
Исследователи часто цитируют слова Цветаевой из «Послесловия» к ее докладу «Поэт и время», свидетельствующие о внутреннем родстве поэтов: «Пастернак и я, не сговариваясь, думаем над одним и говорим одно» (см., в частности: [Швейцер: 366]). Затем это ощущение полной слитности, восприятия каждым из них другого как своего двойника постепенно исчезло.
Биографы не раз обращались к тем периодам, когда отношения двух поэтов были близки к разрыву, — и, конечно, прежде всего к их знаменитой встрече-«невстрече» в Париже на Международном конгрессе писателей в защиту культуры в июне 1935-го, когда родство душ сменилось взаимным непониманием, существованием как бы в разных измерениях.
Е. Толкачева в статье «Мотив встречи в письмах М. Цветаевой» объясняет произошедшее охлаждение следующим образом: «В 1935 году они увиделись в Париже. Тогда Цветаева узнала, что Пастернак «заигрывает» с властью и пишет на требуемые временем темы. В ее глазах он мгновенно уронил звание Поэта» [Толкачева].
В биографии Бориса Пастернака, написанной его сыном и основанной на обширных архивных материалах, этот же эпизод со ссылкой на слова Цветаевой из письма Анне Тесковой представлен иначе: «В его словах о болезни и желании «удерживаться от истерии и неврастении» она увидела предательство Лирики с большой буквы» [Пастернак: 503] — следовательно, ни о каком «заигрывании» с властью речи не идет. Напротив, Е. Пастернак приводит воспоминания и высказывания Андре Мальро, Исайи Берлина, И. Эренбурга, Н. Тихонова, жены И. Бабеля А. Пирожковой о том, что «выступление Пастернака на конгрессе было направлено против самой идеи защиты культуры на дискуссиях и собраниях» [Пастернак: 503], то есть пафос этого выступления скорее свидетельствует о еретичности его позиции по отношению к власти.
В. Швейцер, давая оценку истинных причин того, почему столь долгожданная встреча двух поэтов в Париже в итоге была прервана отъездом Цветаевой в Фавьер, откуда она писала о своем разочаровании в Пастернаке, отмечает неспособность Цветаевой понять всего ужаса положения ее друга-поэта в Советском Союзе, его депрессию, «владевший им страх, ощущение ложности своего положения на конгрессе, куда его привезли силком…» [Швейцер: 372].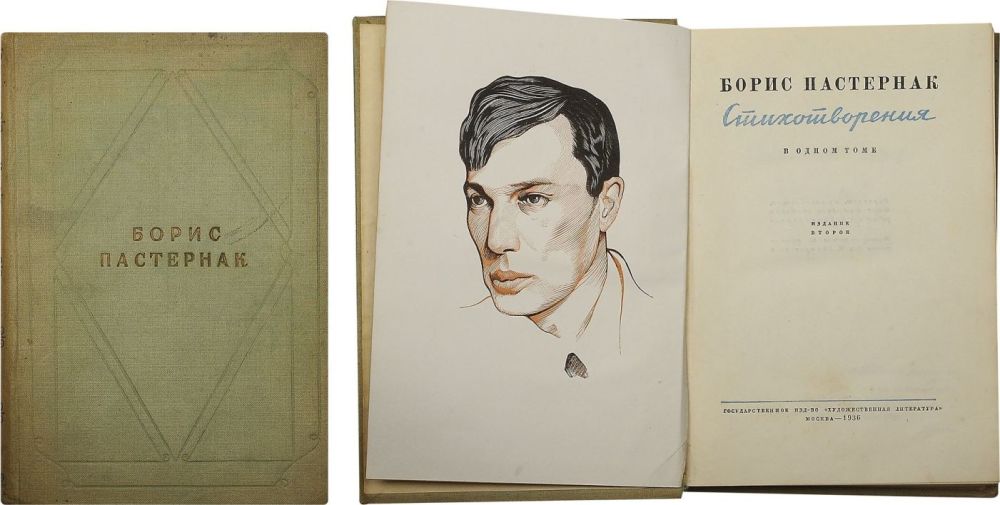
Цель данной статьи — на примере двух стихотворных посланий Бориса Пастернака Марине Цветаевой (одном — прижизненном — 1929 года, другом — написанном после ее смерти, в 1943-м), а также стихов Цветаевой, в которых прослеживается связь с этими посланиями, показать, какие формы приобретал их диалог накануне знаменитой встречи-«невстречи» и после нее.
А. Морыганов в своей чрезвычайно интересной работе «К истории взаимоотношений Цветаевой и Пастернака (на материале переписки 1926 года)» указывает на различия, которые проявились между ними к середине года в понимании проблемы «Поэт и Время», спроецированной «на жизненно значимый круг вопросов о взаимоотношениях с историей и современностью» [Морыганов: 160]. Исследователь видит причину уже отчетливо проявившихся разногласий в том, что Цветаева, находясь в поле влияния модернистской эстетической системы, не желала вести диалог со временем, поскольку «поэт — до всякого столетья», а Пастернак, напротив, в 1920-е годы выходит за рамки модернизма и ищет новые формы этого диалога. Для Цветаевой «само время, его течение <…> стягиваются к некоему внеположному (лежащему за пределами) смыслу», ибо именно поэтическое слово способно навести «мосты между временем и его располагающимся в Вечности смыслом» [Морыганов: 163].
Исследователь видит причину уже отчетливо проявившихся разногласий в том, что Цветаева, находясь в поле влияния модернистской эстетической системы, не желала вести диалог со временем, поскольку «поэт — до всякого столетья», а Пастернак, напротив, в 1920-е годы выходит за рамки модернизма и ищет новые формы этого диалога. Для Цветаевой «само время, его течение <…> стягиваются к некоему внеположному (лежащему за пределами) смыслу», ибо именно поэтическое слово способно навести «мосты между временем и его располагающимся в Вечности смыслом» [Морыганов: 163].
Пастернак же, по мнению Морыганова, стремится к равноправному диалогу поэта и истории, предполагающему «союз и суверенность сторон» [Морыганов: 164]. Его обращение к крупным эпическим жанрам исследователь объясняет мучительным поиском конкретных форм диалога с чуждым ему временем, поскольку свой долг художника он видел в «попытке противопоставить героической и далекой от истины официальной легенде о русской революции объемную художественную и историческую правду» [Морыганов: 166].
В целом разделяя эту точку зрения, заметим, что по мере того, как «плен времени» становился все более тягостным для каждого из поэтов, происходило и постепенное сближение их позиций. Стихотворение «Марине Цветаевой» позволяет увидеть, как это происходило.
Послание было написано в 1929 году, когда имя Цветаевой в Советском Союзе было уже под запретом, как, впрочем, и имена других эмигрантов, но Пастернак не считал нужным следовать этому запрету. На рубеже 1920-1930-х годов в его творчестве все активнее начинает звучать мотив «исторической порчи», которую наводит на людей эпоха. В стихотворении «Марине Цветаевой» отчетливо выражено стремление ей, этой порче, противостоять:
Мне все равно, чей разговор
Ловлю, плывущий ниоткуда.
Любая быль — как вешний двор,
Когда он дымкою окутан.
Мне все равно, какой фасон
Сужден при мне покрою платьев.
Любую быль сметут как сон,
Поэта в ней законопатив.
Клубясь на много рукавов,
Получить доступ
Марина Цветаева и Борис Пастернак – эпистолярный роман.
 Спектакль «1926» – ISRAELI CULTURE
Спектакль «1926» – ISRAELI CULTUREВ середине февраля 2019 года в Израиль придет год «1926» – музыкальный мультимедийный спектакль об отношениях великих поэтов Серебряного века – Марины Цветаевой и Бориса Пастернака – с Елизаветой Боярской и Анатолием Белым в главных ролях.
Входи, мой друг, входи без стука.
Для нашей дружбы нет двери.
Мои стихи к тебе послушай,
Я – вся внимание – твои.
Марина Цветаева и Борис Пастернак… У каждого из них была своя непростая жизнь, со своими запутанными взаимоотношениями с окружением, от чего они пытались убежать, погружаясь в свой личный мир. Любовь двух гениальных поэтов, Цветаевой и Пастернака, стала для них одновременно исчастьем, и мукой, длившимися более десяти лет. Современники, ровесники, поэты: Марина Цветаева и Борис Пастернак вели переписку на протяжении 13 лет. Их роман, запечатленный в письмах и документах, до сих покоряет до глубины души. «Как я люблю любить… А Вы когда-нибудь забываете, когда любите, что любите? Я – никогда». В этих строках была вся Цветаева. В любви заключался смысл ее жизни. Отношения поэтессы с мужем Сергеем Эфроном были непростыми. После долгой разлуки, в 1922 году Марина Цветаева переехала к нему в Берлин, и в этом же году случилась ее первая «встреча» с Пастернаком.
В этих строках была вся Цветаева. В любви заключался смысл ее жизни. Отношения поэтессы с мужем Сергеем Эфроном были непростыми. После долгой разлуки, в 1922 году Марина Цветаева переехала к нему в Берлин, и в этом же году случилась ее первая «встреча» с Пастернаком.
Пытаясь убежать от семейных проблем, Пастернак в Москве покупал новые книги и уходил в чтение с головой. Однажды емув руки попался сборник «Версты». В стихах Марины Цветаевой он нашел отдушину: «В неё надо было вчитаться. Когда я это сделал, я ахнул от открывшейся мне бездны чистоты и ясности». Их мимолётные встречи в послереволюционной Москве до отъезда Цветаевой в Берлин были случайны. Есть свидетельства, что Пастернак хотел всё бросить и поехать в Берлин, но обстоятельства возобладали.
«Дорогая Марина Ивановна! Сейчас я с дрожью в голосе стал читать брату Ваше – «Знаю, умру на заре!» – и был как чужим, перебит волною подкатывавшего к горлу рыдания…» – из письма, написанного 14 июня 1922 года. Не ответить на письмо, полное восхищения её творчеством, Цветаева не могла. Так началась их переписка. Для Цветаевой Пастернак был настолько из ее мира, что она пишет о себе самое сокровенное, не сомневаясь, что он её поймет. В его письмах она находила поддержку, в его словах – родной русский язык, а в его душе – себя. «Вы первый поэт, которого я — за жизнь — вижу. Вы первый поэт, в чей завтрашний день я верю, как в свой. Вы единственный, современником которого я могу себя назвать – и радостно! – во всеуслышание! – называю… И вот, Пастернак, я счастлива быть вашим современником». В подтверждение этим строкам, в 1924 году Марина Ивановна издает цикл стихов «Двое»:
Так началась их переписка. Для Цветаевой Пастернак был настолько из ее мира, что она пишет о себе самое сокровенное, не сомневаясь, что он её поймет. В его письмах она находила поддержку, в его словах – родной русский язык, а в его душе – себя. «Вы первый поэт, которого я — за жизнь — вижу. Вы первый поэт, в чей завтрашний день я верю, как в свой. Вы единственный, современником которого я могу себя назвать – и радостно! – во всеуслышание! – называю… И вот, Пастернак, я счастлива быть вашим современником». В подтверждение этим строкам, в 1924 году Марина Ивановна издает цикл стихов «Двое»:
«В мире, где всяк /Сгорблен и взмылен, / Знаю – один /Мне равносилен. / В мире, где столь / Многого хощем, / Знаю — один / Мне равномощен. / В мире, где все -/Плесень и плющ, /Знаю: один / Ты равносущ /Мне».
Шел 1926 год и Пастернак писал Цветаевой о своих мечтах: «А потом будет лето нашей встречи. Я люблю его за то, что это будет встреча со знающей силой, то есть то, что мне ближе всего, и что я только в музыке встречал, в жизни же не встречал никогда…».
Но их встреча постоянно переносились в силу трагических обстоятельств. В 1927 году Пастернак и Цветаева должна были вместе поехать к Райнеру Марие Рильке – поэту, который олицетворял для них Поэзию, но Рильке умер в последние дни 1926 года.
«Вся жизнь делится на три периода: предчувствие любви, действие любви и воспоминания о любви» – писала Марина Цветаева, но чем дальше заходило общение Пастернака и Цветаевой, тем более они идеализировали друг друга. Их письма создавали безупречные образы. Марина Ивановна пишет: «Пастернак — это сплошное настежь: / все двери с петли: в Жизнь», в ответ на признание от поэта: «А теперь о тебе. Сильнейшая любовь, на какую я способен, только часть моего чувства к тебе. Я уверен, что никого никогда еще так, но и это только часть… Ты страшно моя и не создана мною, вот имя моего чувства. Я люблю и не смогу не любить тебя долго, постоянно, всем небом, всем нашим вооруженьем, я не говорю, что целую тебя только оттого, что они падут сами, лягут помимо моей воли, и оттого, что этих поцелуев я никогда не видал. Я боготворю тебя… Не разрушай меня, я хочу жить с тобой, долго, долго жить».
Я боготворю тебя… Не разрушай меня, я хочу жить с тобой, долго, долго жить».
Елизавета Боярская в роли Марины Цветаевой
Но рано или поздно, их судьбы должна была решить встреча. Спустя еще несколько лет переписки, их общение сошло на нет. Ни Пастернак, ни Цветаева больше не нуждались в друг друге. «Я бы не смогла с тобой жить не из-за непонимания, а из-за понимания. Страдать от чужой правоты, которая одновременно и своя, страдать от правоты – этого унижения я бы не вынесла». Когда в 1935 году в Париже на антифашистском Международном конгрессе писателей в защиту культуры состоялось их долгожданное рандеву, вместо страстных объятий и признаний в любви, поэты пили чай и вяло говорили о литературе и музыке. Эта «невстреча» предопределила дальнейшие судьбы поэтов. Им не суждено было быть вместе. Марина Ивановна спрашивала мнения Пастернака – стоит ли ей возвращаться в СССР, но Борис Леонидович боялся дать совет и лишь всячески старался перевести тему разговора в иное русло. Ни он, ни она даже представить себе не могли, как сложится их судьба спустя несколько лет. Пастернака ждали бесславные годы лишений и испытаний, Цветаеву – аресты близких людей и петля в Елабуге.
Ни он, ни она даже представить себе не могли, как сложится их судьба спустя несколько лет. Пастернака ждали бесславные годы лишений и испытаний, Цветаеву – аресты близких людей и петля в Елабуге.
От их любви остались лишь сотни любовных писем. Согласно последней воле дочери Марины Цветаевой – Ариадны,часть этих писем не может быть опубликована раньше середины XXI века, но часть уже вышла в сборнике «Марина Цветаева – Борис Пастернак «Души начинают видеть» – Письма 1922-1936 годов». Название этой книге дала строчка из стихотворного цикла Марины Цветаевой, посвященного Борису Пастернаку.
Биография Марины Цветаевой – биография России того времени, и вот ее заключительный эпизод: война застала Цветаеву за переводами Федерико Гарсиа Лорки. Работа была прервана. 8 августа 1941 года Цветаева с сыном Георгием уехала на пароходе в эвакуацию; 18-го прибыла вместе с несколькими писателями в городок Елабугу на Каме. В Чистополе, где в основном находились эвакуированные литераторы, Цветаева получила согласие на прописку и оставила заявление: «В совет Литфонда. Прошу принять меня на работу в качестве посудомойки в открывающуюся столовую Литфонда. 26 августа 1941 года». Но ей не дали и такой работы: совет писательских жен счел, что она может оказаться немецким шпионом. 28 августа она вернулась в Елабугу с намерением перебраться в Чистополь.
Прошу принять меня на работу в качестве посудомойки в открывающуюся столовую Литфонда. 26 августа 1941 года». Но ей не дали и такой работы: совет писательских жен счел, что она может оказаться немецким шпионом. 28 августа она вернулась в Елабугу с намерением перебраться в Чистополь.
Пастернак, провожая в эвакуацию, дал ей для чемодана веревку, не подозревая, какую страшную роль этой веревке суждено сыграть. Не выдержав унижений, Цветаева 31 августа 1941 года повесилась на той самой веревке, которую дал ей Пастернак.
Елизавета Боярская и Анатолий Белый воплощают на сцене перипетии этого романа – одного из величайших платонических романов XX века. В магическом пространстве спектакля слово сочетается с драмой, новейшая технология 3D-проекций – видеомаппинг – с тембром скрипки. При этом звучание скрипки становится одним из важнейших смысловых измерений целого, голосом незримо присутствующего немецкого поэта Райнера Марии Рильке – близкого, созвучного, важного человека – и для Цветаевой, и для Пастернака. Их письма к нему – важная часть целого, углубляющая драму. Этой же цели служит и текст поэмы «Крысолов»: ее персонажей Марина Цветаева называла символами поэзии, души и быта, социальное в этом тексте переплетается с метафизическим и с самой пронзительной лирикой.
Их письма к нему – важная часть целого, углубляющая драму. Этой же цели служит и текст поэмы «Крысолов»: ее персонажей Марина Цветаева называла символами поэзии, души и быта, социальное в этом тексте переплетается с метафизическим и с самой пронзительной лирикой.
Анатолий Белый в роли Бориса Пастернака
Партитура, подготовленная специально для спектакля Алексеем Курбатовым, российским композитором, пианистом и педагогом, включает как его собственные сочинения, так и шедевры Баха, Бартока, Изаи и других композиторов. Партию сольной скрипки исполняют поочередно известная скрипачка Марианна Васильева и Дмитрий Синьковский – скрипач, контратенор и дирижер. Автор идеи и художественный руководитель проекта – Валерий Галендеев (израильтянам уже знакома его постановка – музыкальный спектакль «Неизвестный друг» по рассказу Бунина с Ксенией Раппопорт и Полиной Осетинской), драматург и режиссер – Алла Дамскер, художник-сценограф – Глеб Фильштинский, художник по костюмам – Алина Герман.
Премьера спектакля «1926» пройдет в январе 2019 года в Санкт-Петербурге.
Действующие лица и исполнители:
Марина Цветаева – Елизавета Боярская
Борис Пастернак – Анатолий Белый
Партия скрипки – Марианна Васильева /Дмитрий Синьковский
Нетания, 13 февраля 2019, среда, 20:00, Гейхал ха-Тарбут, «Аудиториум»
Хайфа, 14 февраля 2019, четверг, 20:00, «Аудиториум»
Беэр-Шева, 15 февраля 2019, пятница, 20:00, Центр сценических искусств, большой зал
Иерусалим, 16 февраля 2019, суббота, 20:30, «Театрон Иерушалаим», зал «Реббека Краун»
Тель-Авив – Яффо, 17 февраля 2019, воскресенье, 20:00, театр Гешер, зал «Нога»
Заказ билетов: https://israelculture.kaccabravo.co.il/announce/61225
Страница продюсера в фейсбуке: https://www.facebook.com/FGKproduction/
Фотографии (© Илья Базарский) предоставлены организатором гастролей – FGK Production
Related Items:«1926», Алексей Курбатов, Алексей Морозов, Анатолий Белый, Борис Пастернак, Валерий Галендеев, гастроли, Дмитрий Синьковский, Елизавета Боярская, Марианна Васильева, Марина Цветаева
Нет повести печальнее на свете… (Марина Цветаева − Борис Пастернак: роман в письмах)
По трущобам земных широт
Рассовали нас, как сирот.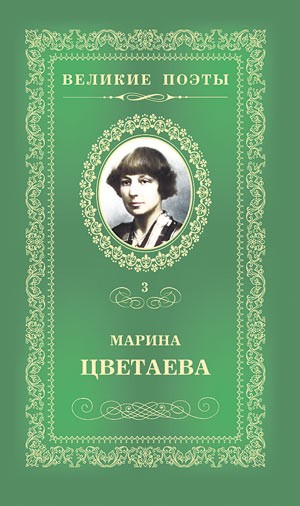
Который уж, ну который − март?!
Разбили нас − как колоду карт!
(М. Цветаева − Б. Пастернаку, 24 марта 1925 г.)
«Пастернак, я с такой силой думала о Вас, нет, не о Вас, о себе без Вас, о дорогах без Вас, ‒ ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся! (Простите за такой взрыв правды, пишу, как перед смертью.)»
(Из письма Марины Цветаевой Борису Пастернаку от 9 марта 1923 г.)
Нет, конечно, они были старше, чем Ромео и Джульетта, но история их любви – такая же страстная, такая же печальная…
А почему эта публикация вышла именно в марте, вы уже, наверное, поняли исходя из двух вышеприведённых цитат в эпиграфе!
…Мне кажется, что этот уникальный литературный поэтический 100-летний юбилей я заметил первым в России, поэтому счёл обязательным опубликовать эту статью именно к 9 марта 2022 года (см. строки из «цветаевского письма выше, в эпиграфе).
строки из «цветаевского письма выше, в эпиграфе).
Как всегда для удобства примем к сокращению их имена: «МЦ», «БП».
Именно 9 марта МЦ подписывает для БП свой сборник «Ремесло» так: «Моему заочному другу – заоблачному брату – Борису Пастернаку».
Именно в 1922 году, то есть ровно 100 лет назад, началась эта беспримерная по искренности, по жару души переписка.
ПЕРЕПИСКА ДВУХ ВЕЛИКИХ ПОЭТОВ, ДВУХ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫХ ГЕНИЕВ РУССКОЙ ПОЭЗИИ!
Перед вами их цитатник – учебник любви и страсти, книга высокого творчества, тайного жара души и бесконечного одиночества….
ЭТОТ ЦИТАТНИК ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СВОИХ ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ − ДОПУСТИМ, ПРИЗНАВАТЬСЯ В ЛЮБВИ СЛОВАМИ ПАСТЕРНАКА ИЛИ ЦВЕТАЕВОЙ…
Речь идёт о необычной книге. По моему мнению, она – лучшая среди произведений эпистолярного жанра. Это переписка не просто между двумя людьми, а уникальный роман в письмах между двумя великими поэтами ХХ века.
Это переписка не просто между двумя людьми, а уникальный роман в письмах между двумя великими поэтами ХХ века.
Сейчас в наш технологически продвинутый век, когда большие письма своим знакомым, родным и близким окончательно уступили место коротким бездушным эсмскам, это выдающееся произведение возвышается огромным айсбергом, но только не ледяным, а поистине огнедышащим, в которое два его автора вложили весь жар своей души!
В мировой литературе вряд ли было что-то подобное этой переписке! Это сплошные обнажённые чувства, в письмах нет никаких бытоописаний, а только стихи и страсть, поэзия и любовь! Цветаева называла стихи Пастернака «световым ливнем»! Их общение сквозь время, сквозь разные страны, сквозь пространство – это не просто письма, это – ожог души. Это погружение в самые потаённые глубины чувств! Две бесконечно родственные души, но разобщенные расстояниями, вёрстами, милями…
Иногда поэтов, особенно таких великих, как они, называли безумными, не вполне нормальными. Но в ответ на это утверждение всегда приходит на ум цитата из великого русского философа Владимира Соловьёва, когда один генерал сказал ему: «Я, конечно, понимаю, что гении имеют право на сумасшествие…», на что философ ответил: «Иногда мне тоже кажется, что я – сумасшедший, но чаще, я думаю, что я-то нормальный, а все вокруг ‒ сумасшедшие…».
Но в ответ на это утверждение всегда приходит на ум цитата из великого русского философа Владимира Соловьёва, когда один генерал сказал ему: «Я, конечно, понимаю, что гении имеют право на сумасшествие…», на что философ ответил: «Иногда мне тоже кажется, что я – сумасшедший, но чаще, я думаю, что я-то нормальный, а все вокруг ‒ сумасшедшие…».
Они, несомненно, создавали такие письма, которые не напишет больше никто! И, судя по всему, такого уже не будет больше НИКОГДА!
5 мая 1926 года Пастернак пишет Цветаевой: «Если ты обложишь меня льдом … Я теперь никогда уже не смогу разлюбить тебя, потому что ты моё единственное законное небо… Марина, у меня волосы становятся дыбом от боли и холода, когда я тебя называю…».
Итак, они не пишут и не напишут друг другу ни о чём земном, только касаются друг друга крыльями души!
…«Их переписка – событие поистине мирового значения» − говорил профессор Борис Аверин.
И сейчас, спустя ровно 100 лет, возникает всё время мысль, что ни Пастернак, ни Цветаева нами и сегодня до конца не поняты и не познаны, дотянуться до них – вот наша задача, дорогой мой читатель!
1. Н А Ч А Л О
Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес,
Оттого что лес − моя колыбель, и могила − лес,
Оттого что я на земле стою ‒ лишь одной ногой,
Оттого что я о тебе спою ‒ как никто другой.
Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей,
У всех золотых знамен, у всех мечей,
Я ключи закину и псов прогоню с крыльца −
Оттого что в земной ночи я вернее пса.
(МЦ)
В мае 1922 года Цветаева уехала из России в Берлин к обретённому вновь после многолетней разлуки мужу − Сергею Эфрону. Начались трудные и долгие годы её пребывания вне Родины.
Начались трудные и долгие годы её пребывания вне Родины.
Вскоре Борис Пастернак прочёл её сборник «Вёрсты», изданный в 1921 году, и написал ей восторженное письмо. Это произошло в 1922 году, т.е. ровно 100 лет назад.
В это время МЦ вместе с мужем Сергеем Эфроном, бежавшим от революции и красного террора, переехала в Прагу.
Цветаева, которая всегда чувствовала себя одинокой, почувствовала родственную душу и ответила. Так началось содружество и настоящая любовь двух великих людей. Длилась их переписка до 1935 года, и за все эти годы они ни разу не встретились. Хотя судьба, как будто дразня, несколько раз почти дарила им встреч, но в последний момент передумывала.
И их эпистолярный роман то сходил на нет, то вспыхивал с новой страстной силой. Борис Пастернак был женат, Марина была замужем. Известно, что Цветаева хотела назвать в честь Пастернака своего сына, который родился в 1925 году. Но она, как сама писала, не посмела ввести свою любовь в семью; мальчик был назван Георгием по желанию мужа.
Супруга Пастернака, Евгения Владимировна, безусловно, ревновала мужа к Цветаевой. Но обеих женщин ждало событие, которое примирило их в этой щепетильной ситуации: в 1930 году Пастернак ушел от жены к красавице Зинаиде Нейгауз.
«Наши жизни похожи, я тоже люблю тех, с кем живу, но это доля. Ты же воля моя, та, пушкинская, взамен счастья». (Из письма Цветаевой Б. Пастернаку.)
Это положило начало длительной переписке между двумя творческими личностями. Пастернак рассматривал эти отношения, как чисто дружеские, и даже уклонялся от личных встреч. А Цветаева, почувствовав родственную душу, решила, что наконец-то нашла свой мужской идеал. Для нее переписка превратилась в бурный любовный роман. Поэтесса посвятила Пастернаку большое количество прекрасных стихотворений, среди которых, допустим, − «Рас-стояние: версты, мили…» (1925 г.).
Общение с БП для МЦ – обретение утраченного неба, возвращение на Олимп, откуда волей случая сброшена её душа великого поэта на грешную землю. Именно БП становится её собеседником, потому что именно он, как равновеликий ей поэт способен услышать музыку её лиры, понять суть её души. МЦ пишет ему: «Вы сейчас мой любимый русский поэт, и мне нисколько не стыдно сказать, что только для Вас и именно для Вас сяду в вагон и приеду. Мой любимый вид общения − потусторонний: сон. Письмо как некий вид потустороннего общения. А второе − переписка. Письмо, как некий вид потустороннего общения. Вы у меня в жизни не умещаетесь, очевидно − простите за смелость!..» (МЦ)
Именно БП становится её собеседником, потому что именно он, как равновеликий ей поэт способен услышать музыку её лиры, понять суть её души. МЦ пишет ему: «Вы сейчас мой любимый русский поэт, и мне нисколько не стыдно сказать, что только для Вас и именно для Вас сяду в вагон и приеду. Мой любимый вид общения − потусторонний: сон. Письмо как некий вид потустороннего общения. А второе − переписка. Письмо, как некий вид потустороннего общения. Вы у меня в жизни не умещаетесь, очевидно − простите за смелость!..» (МЦ)
2. ВЫСОКАЯ БОЛЕЗНЬ (НАДЕЖДА НА ВСТРЕЧУ)
Но нежданно по портьере
Пробежит вторженья дрожь, −
Тишину шагами меря.
Ты, как будущность, войдешь.
Ты появишься у двери
В чем-то белом, без причуд,
В чем-то, впрямь из тех материй,
Из которых хлопья шьют.
(БП)
По словам дочери МЦ – Ариадны Эфрон «все, что было создано ею (Цветаевой − М.Л.) в двадцатые годы и в начале тридцатых, в пору ее творческой зрелости и щедрости, кем бы и чем бы ни вдохновлялось это созданное, − все это, от сердца к сердцу, было направлено, нацелено на Пастернака, фокусировано на него, обращено к нему, как молитва.»
«И всегда, всегда, всегда, Пастернак, на всех вокзалах моей жизни, у всех фонарных столбов моих судеб, вдоль всех асфальтов, под всеми «косыми ливнями» − это будет: мой вызов, Ваш приход…» (МЦ)
«Ты же – воля моя.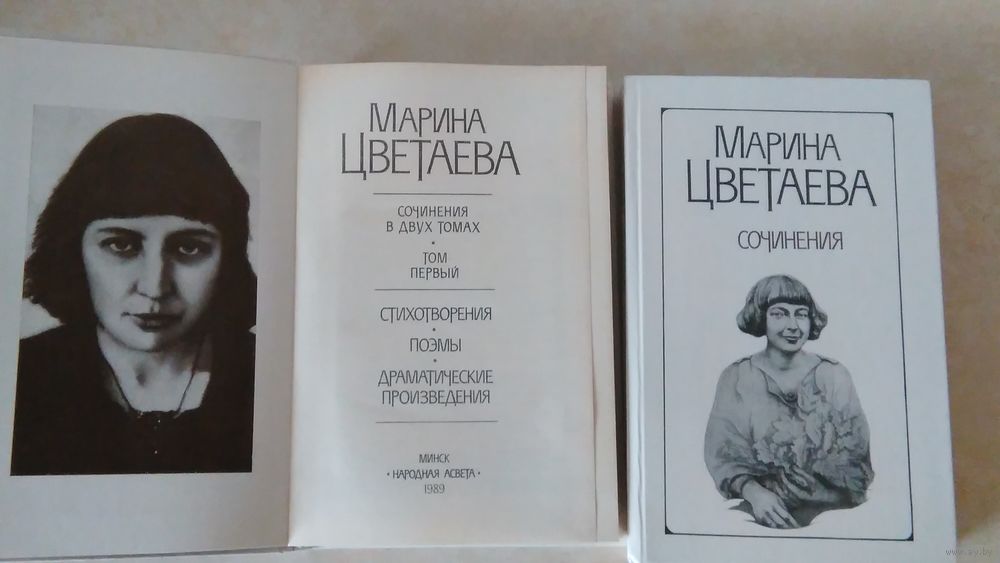 Ты – мой вершинный брат, всё остальное в моей жизни – аршинное…» (МЦ)
Ты – мой вершинный брат, всё остальное в моей жизни – аршинное…» (МЦ)
«О, как много мужества нужно − жить! Как много − лжи! И как еще больше — правды! Борис Пастернак для меня − святыня, это вся моя надежда, тo небо за краем земли, то, чего еще не было…»
В одном из ответных писем БП обращается к ней так: «Марина, бездоннодушевный друг мой…»
И с тревожной верой, с тревожным восторгом Марина принимает предложение Пастернака, романтическое и несбыточное, встретиться в Веймаре, под сенью обожаемого обоими Гете, − в мае 1925 года. (Именно в Веймаре великий немецкий поэт прожил большую часть своей жизни − 50 лет! (М.Л.).
«…А теперь о Веймаре: Пастернак, не шутите! Я буду жить этим все два года напролет. И если за эти годы умру (− не умру!), это будет моей предпоследней мыслью. Вы не шутите только. Я себя знаю. Пастернак, я сейчас возвращалась черной проселочной дорогой… − шла ощупью: грязь, ямы, темные фонарные столбы. Пастернак, я с такой силой думала о Вас − нет, не о Вас − о себе без Вас, об этих фонарях и дорогах без Вас, − ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся! …Два года роста впереди, до Веймара. (Вдруг − по безумному! − начинаю верить!) Мне хочется дать Вам одно обещание, даю его безмолвно: − буду присылать Вам стихи и все, что у меня будет в жизни…».
И если за эти годы умру (− не умру!), это будет моей предпоследней мыслью. Вы не шутите только. Я себя знаю. Пастернак, я сейчас возвращалась черной проселочной дорогой… − шла ощупью: грязь, ямы, темные фонарные столбы. Пастернак, я с такой силой думала о Вас − нет, не о Вас − о себе без Вас, об этих фонарях и дорогах без Вас, − ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся! …Два года роста впереди, до Веймара. (Вдруг − по безумному! − начинаю верить!) Мне хочется дать Вам одно обещание, даю его безмолвно: − буду присылать Вам стихи и все, что у меня будет в жизни…».
МЦ верит и не верит в их будущую встречу: «Вы. Как с этим жить? Дело не в том, что Вы − там, а я − здесь, дело в том, что Вы будете там, что я никогда не буду знать, есть Вы или нет.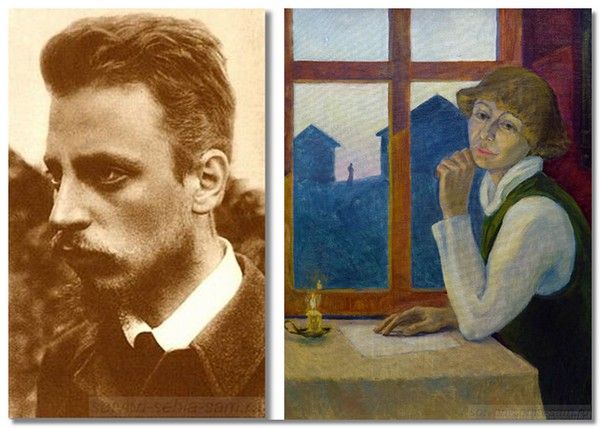 Тоска по Вас и страх за Вас, дикий страх, я себя знаю. А теперь просто: я живой человек, и мне очень больно. Где-то на высотах себя − лед (отрешение!), в глубине, в сердцевине − боль. Эти дни до Вашего отъезда я буду очень мучиться. Пастернак, два года роста впереди, до Веймара».
Тоска по Вас и страх за Вас, дикий страх, я себя знаю. А теперь просто: я живой человек, и мне очень больно. Где-то на высотах себя − лед (отрешение!), в глубине, в сердцевине − боль. Эти дни до Вашего отъезда я буду очень мучиться. Пастернак, два года роста впереди, до Веймара».
Из двух назначенных лет проходит год − огромный год «жизни, как она есть» − во всей ее растворяющейся повседневности и календарности, со всеми ее заботами, досадами, радостями, дождями, радугами, бессонницами, недоразумениями, новыми знакомствами, старыми спорами, шумящими примусами, − огромный год творчества в потоке жизни и наперекор ему − год переписки с Пастернаком, год нарастания этой титанической, поэтической страсти, страсти «поверх барьеров»…
Именно в те годы БП признается ей: «Какие удивительные стихи Вы пишете! Как больно, что сейчас Вы больше меня! Вообще − Вы − возмутительно большой поэт. Говоря о щемяще-малой, неуловимо электризующей прелести, об искре, о любви − я говорил об этом. Я точно это знаю. Любить Вас так, как надо, мне не дадут, и всех прежде, конечно, − Вы».
Говоря о щемяще-малой, неуловимо электризующей прелести, об искре, о любви − я говорил об этом. Я точно это знаю. Любить Вас так, как надо, мне не дадут, и всех прежде, конечно, − Вы».
МЦ на это отвечала:
«Ничья хвала и ничье признанье мне не нужны, кроме Вашего. О, не бойтесь моих безмерных слов, их вина в том, что они еще слова, т.е. не могут еще быть только чувствами…»
3. МУКИ ТВОРЧЕСТВА
Крик разлук и встреч −
Ты, окно в ночи!
Может − сотни свеч,
Может − три свечи…
Нет и нет уму
Моему − покоя.
И в моем дому
Завелось такое.
Помолись, дружок,
за бессонный дом,
За окно с огнем!
(МЦ)
…Знаете ли вы, что такое муки творчества и как становится легче поэту преодолеть их, если есть на свете такой же поэт (хотя и совсем иного склада), который вдохновляет его, даёт советы, делится своим необычным мнением?! Ну, если тут ещё случается и взаимная любовь, то тогда из двух этих искр обязательно начнут загораться стихотворные шедевры. Так оно и случилось меж ними!
МЦ: «Вы первый поэт, в чей завтрашний день я верю, как в свой. Вы первый поэт, чьи стихи меньше него самого, хотя больше всех остальных. Вы − Пастернак, в полной чистоте сердца, мой первый поэт, т. е. судьба, свершающаяся <вариант: разворачивающаяся> на моих глазах, и я так же спокойно (уверенно) говорю − Пастернак, как Байрон, как Лермонтов. Ни о ком не могу сказать сейчас: я его современник, если скажу − польщу, пощажу, солгу. И вот, Пастернак, я счастлива быть Вашим современником…Поднимите голову ввысь: там − Ваши читатели».
е. судьба, свершающаяся <вариант: разворачивающаяся> на моих глазах, и я так же спокойно (уверенно) говорю − Пастернак, как Байрон, как Лермонтов. Ни о ком не могу сказать сейчас: я его современник, если скажу − польщу, пощажу, солгу. И вот, Пастернак, я счастлива быть Вашим современником…Поднимите голову ввысь: там − Ваши читатели».
Цветаева! Нет − она не завидовала таланту другого, она просто радовалась за него:
«Чехия, 10 нов. февраля 1923 г.
Пастернак! Вы первый поэт, которого я − за жизнь − вижу. Вы первый поэт, в чей завтрашний день я верю, как в свой. Вы первый поэт, чьи стихи меньше него самого, хотя больше всех остальных. Пастернак, я много поэтов знала: и старых, и малых, и не один из них меня помнит. Это были люди, писавшие стихи: прекрасно писавшие стихи или (реже) писавшие прекрасные стихи. − И всё. − Каторжного клейма поэта я
Это были люди, писавшие стихи: прекрасно писавшие стихи или (реже) писавшие прекрасные стихи. − И всё. − Каторжного клейма поэта я
ни на одном не видела: это жжет за версту!
Вы единственный, современником которого я могу себя назвать − и радостно! − во всеуслышание! − называю…Ваша книга − ожог. Та ливень, а эта ожог: мне было больно…
Это прорвалось как плотина. Стихи к Вам. И я такие странные вещи в них узнаю. Швыряет, как волны.
Друзей у меня нет, − здесь не любят стихов, а вне − не стихов, а того, из чего они − чтo я? Негостеприимная хозяйка, молодая женщина в старых платьях»
Как у любого поэта с БП случались творческие кризисы, когда долго не давалось то или иное стихотворение, когда просто «не писалось». И здесь МЦ вдохновляла его:
И здесь МЦ вдохновляла его:
«Вот я тебя не понимаю: бросить стихи. А потом что? С моста в Москву-реку? Да со стихами, милый друг, как с любовью: пока она тебя не бросит… Ты же у Лиры крепостной.
Мой Пастернак, я может быть вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом, − благодаря Вам!»
Стихотворный «пожар», вызванный дружбой с Пастернаком, продолжался много лет, начиная с берлинского «Неподражаемо лжет жизнь…» вплоть до написанного в 1934 году стихотворения «Тоска по родине! Давно…» – в общей сложности около сорока вещей! Стихи, посвященные Пастернаку, навеянные его личностью, поэзией, перепиской с ним, представляют собой огромный монолог, в котором изредка угадываются реплики адресата. Этот монолог растекается по разным руслам, охватывает все основное в мироощущении Цветаевой
… А вот еще одно признание МЦ:
«Пастернак, если Вам вдруг станет трудно − или не нужно, − ни о чем не прошу, а этого требую: прервите. Тогда загоню вглубь, прерву, чтобы под землей тлело… Я не понимаю времени, я понимаю только Пространство.
Тогда загоню вглубь, прерву, чтобы под землей тлело… Я не понимаю времени, я понимаю только Пространство.
Вы не бойтесь. Это одно такое письмо. Я ведь не глупей стала − и не нищей, оттого что Вами захлебнулась. Вам не только моя оценка тяжела, но и мое отношение, Вы еще не понимаете, что Вы − одаривающий. Буду в меру. В стихах − нет. Но в стихах Вы простите. Ведь мне нужно сказать Вам безмерное: разворотить грудь! В беседе это делается путем молчаний. А у меня ведь − только перо! Две страсти борются во мне, два страха: страх, что не поверите − и страх, что, поверив, отшатнетесь.
В слове я отыгрываюсь, как когда-нибудь отыграюсь в том праведном и щедром мире от кривизны и скудности этого. − Вам ясно? − В жизни я безмерно дика, из рук скольжу. Пастернак, сколько у меня к Вам вопросов!
Пастернак, сколько у меня к Вам вопросов!
… Перо из рук… Уже выходить из княжества слов… Сейчас лягу и буду думать о Вас. Сначала с открытыми глазами, потом с закрытыми. Из княжества слов − в княжество снов.
Пастернак, я буду думать о Вас только хорошее, настоящее, большое. − Как через сто лет! − Ни одной случайности не допущу, ни одного самовластия. Господи, все дни моей
жизни принадлежат Вам! Как все мои стихи»….
4. ТАЙНЫЙ ЖАР
О, по каким морям и городам
Тебя искать? (незримого − незрячей!)
Я проводы вверяю проводам,
И в телеграфный столб упершись − плачу.
(МЦ, 18 марта 1923 г.)
Пастернак пришёл в её жизнь дождём, «световым ливнем», в сны его души погружалась она, читая его стихи.
МЦ: «Две страсти борются во мне, два страха: страх, что не поверите − и страх, что, поверив, отшатнетесь. Встреча с Вами − весь смысл моей жизни здесь на земле…
Борис, я с тобой боюсь всех слов, вот причина моего неписанья. Ведь у нас кроме слов нет ничего, мы на них обречены. Ведь всё что с другими − без слов, через воздух, то теплое облако от − к − у нас словами, безголосыми, без поправки голоса. Мало произнесено (воздух съел) − утверждено, безмолвно пробрано. Борис, во всяком людском отношении слова только на выручку, на худой конец, и конец − всегда худой. Ведь говорят − на прощанье».
Борис, во всяком людском отношении слова только на выручку, на худой конец, и конец − всегда худой. Ведь говорят − на прощанье».
БП старался идти вровень с ней, быть достойным её дара: «Давай молчать и жить, и расти. Не обгоняй меня, я так отстал. Семь лет я был нравственным трупом. Но я нагоню тебя, ты увидишь. Про страшный твой дар не могу думать. Догадаюсь когда-нибудь, случится инстинктивно. Открытый же и ясный твой дар захватывает тем, что становясь долгом, возвышает человека. Он навязывает свободу, как призванье, как край, где тебя можно встретить…».
Цветаева посвящала Пастернаку стихи и мечтала назвать сына в его честь…
Пастернак связывал ее с тем миром, где оба они были небожителями. В письмах они невероятно близки, открыты – может быть, гораздо более, чем были бы при встрече…
МЦ: «Две страсти борются во мне, два страха: страх, что не поверите − и страх, что, поверив, отшатнетесь. Встреча с Вами − весь смысл моей жизни здесь на земле…»
Встреча с Вами − весь смысл моей жизни здесь на земле…»
О встрече с БП, которая было назначено на 1 мая 1925 года, Марина думала, как о встрече высоко в небе, где они свидятся, прожив жизни.
МЦ проставила в одной рукописи такое посвящение БП: «Моему брату в пятом времени года, шестом чувстве и четвертом измерении, и в седьмом небе».
Тринадцать лет длилась эта переписка, достигнув апогеи в 1926 году. Цветаева потом напишет об этом: «Летом 26 года Борис безумно рванулся ко мне, хотел приехать − я отвела: не хотела всеобщей катастрофы».
Более ста писем… Это удивительная история Любви, Дружбы и Содружества, это – «тайный жар», это «высокая болезнь», отраженная в письмах, прозе, критических заметках.
5. СТРАСТЬ
Сними ладонь с моей груди,
Мы провода под током.
Друг к другу вновь, того гляди,
Нас бросит ненароком.
Пройдут года, ты вступишь в брак,
Забудешь неустройства.
Быть женщиной − великий шаг,
Сводить с ума − геройство.
(БП)
В их письмах есть всё: взрывы и срывы, лёд и пламень цветаевской любви к Борису Пастернаку и его ответные чувства!
МЦ: «И всегда, всегда, всегда, Пастернак, на всех вокзалах моей жизни, у всех фонарных столбов моих судеб, вдоль всех асфальтов, под всеми «косыми ливнями» − это будет: мой вызов, Ваш приход.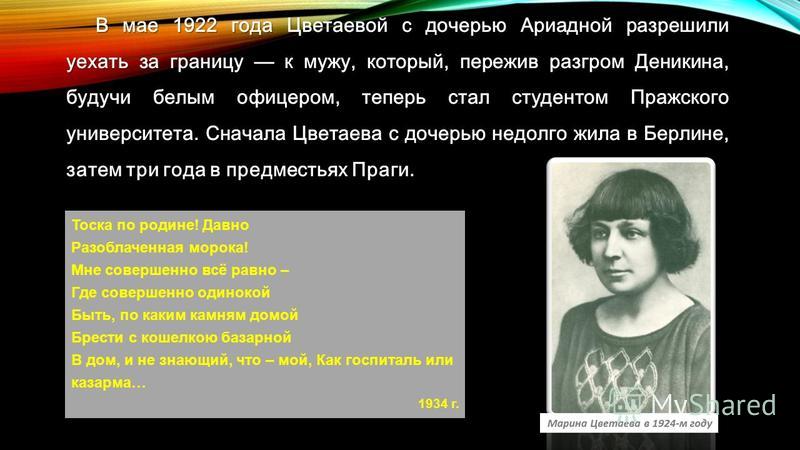 .».
.».
Или прочитаем эти её строки: «Борюшка, я еще никогда никому из любимых не говорила ты − разве в шутку, от неловкости и явности внезапных пустот, − заткнуть дыру. Я вся на Вы, а с Вами, с тобою это ты неудержимо рвется, мой большой брат.
Борис, я два года, я больше двух лет тебя люблю, − ты ведь не скажешь, что это воображение. Люблю, мне это иногда кажется пустым словом, заменим: хочу, жалею, восхищаюсь и т.д., замени, т.е. не существенно. Мне всегда хочется сказать: я тебя больше, лучше, чем люблю. Ты мне насквозь родной, такой же жутко, страшно родной, как я сама, без всякого уюта, как горы. (Это не объяснение в любви, а объяснение в судьбе.) Ни одна моя строка, ни одна моя тоска, ни один мой помысел не минут тебя».
БП отвечал ей в письмах полной взаимностью: «…Никогда теперь не смогу уже разлюбить тебя, ты мое единственное законное небо, и жена до того, до того законная, что в этом слове, от силы, в него нахлынувшей, начинает мне слышаться безумье, ранее никогда в нем не обитавшее. Марина, у меня волосы становятся дыбом от боли и холода, когда я тебя называю. И я тебя не спрашиваю, хочешь ли ты или нет, т.е. допускаешь ли, потому что, порываясь по всему своему складу к свету и счастью, я бы и горе твоего отказа отожествил с тобою, т.е. с хватающей за сердце единственностью, с которой мне никогда не разойтись».
Марина, у меня волосы становятся дыбом от боли и холода, когда я тебя называю. И я тебя не спрашиваю, хочешь ли ты или нет, т.е. допускаешь ли, потому что, порываясь по всему своему складу к свету и счастью, я бы и горе твоего отказа отожествил с тобою, т.е. с хватающей за сердце единственностью, с которой мне никогда не разойтись».
А разве могут оставить нас равнодушными такие пастернаковские строки:
«Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно… Сегодня ты в таком испуге, что обидела меня. О, брось, ты ничем, ничем меня не обижала. Ты не обидела бы, а уничтожила меня только в одном случае. Если бы когда-нибудь ты перестала быть мне тем высоким захватывающим другом, какой мне дан в тебе судьбой».
И её, и его признания в любви − это не просто обычные признания, это – сама поэзия, сама – страсть:
«Дай мне только верить, что я дышу одним воздухом с тобою и любить этот общий воздух. Вы сердечный мой воздух, которым день и ночь дышу я, того не зная….»
Вы сердечный мой воздух, которым день и ночь дышу я, того не зная….»
(Из письма Б. Пастернака Цветаевой)
Или насладимся другими его строками:
«Марина, золотой мой друг, изумительное, сверхъестественно родное предназначенье, утренняя дымящаяся моя душа, Марина, моя мученица, моя жалость, Марина. О, как я Вас люблю, Марина! Так вольно, так прирожденно, так обогащающе ясно. Так с руки это душе, ничего нет легче! Я боготворю тебя…»
(Пастернак – Цветаевой 14 июня 1924 г.)
Для него Марина в те годы была воплощением блоковской вечной женственности: «Я так люблю тебя, что даже небрежен и равнодушен, ты такая своя, точно была всегда моей сестрой, и первой любовью, и женой, и матерью, и всем тем, чем была для меня женщина. Ты та женщина. Дай мне только верить, что я дышу одним воздухом с тобою и любить этот общий воздух».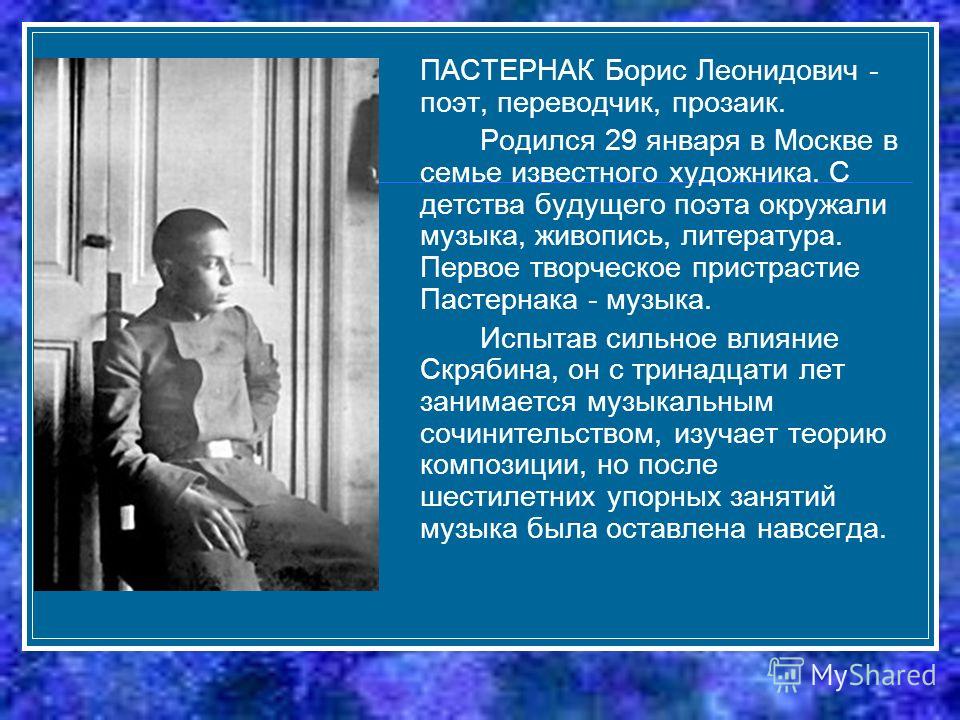
Цветаева отвечала ему всегда по-своему, но с такой же страстью, с таким же вдохновением, только в её голосе постоянно нарастают ноты тревоги, сомнения, ноты одиночества:
«О Вас, поэте, я буду говорить другим. Ни от одного слова не отрекаюсь, но Вам это тяжело, буду молчать. Но тогда останется одно: о себе к Вам (в упор), то, чего я так тщательно (из-за Вас же!) не хотела. Пастернак, если Вам вдруг станет трудно − или не нужно, — ни о чем не прошу, а этого требую: прервите. Тогда загоню вглубь, прерву, чтобы под землей тлело, − как тогда, в феврале, стихи. Сейчас 2 ч<аса> ночи. − Пастернак, Вы будете живы? Я не понимаю времени, я понимаю только Пространство. Я ведь не глупей стала − и не нищей, оттого что Вами захлебнулась. Вам не только моя оценка тяжела, но и мое отношение… Ты мне насквозь родной, такой же страшно, жутко родной, как я сама, без всякого уюта.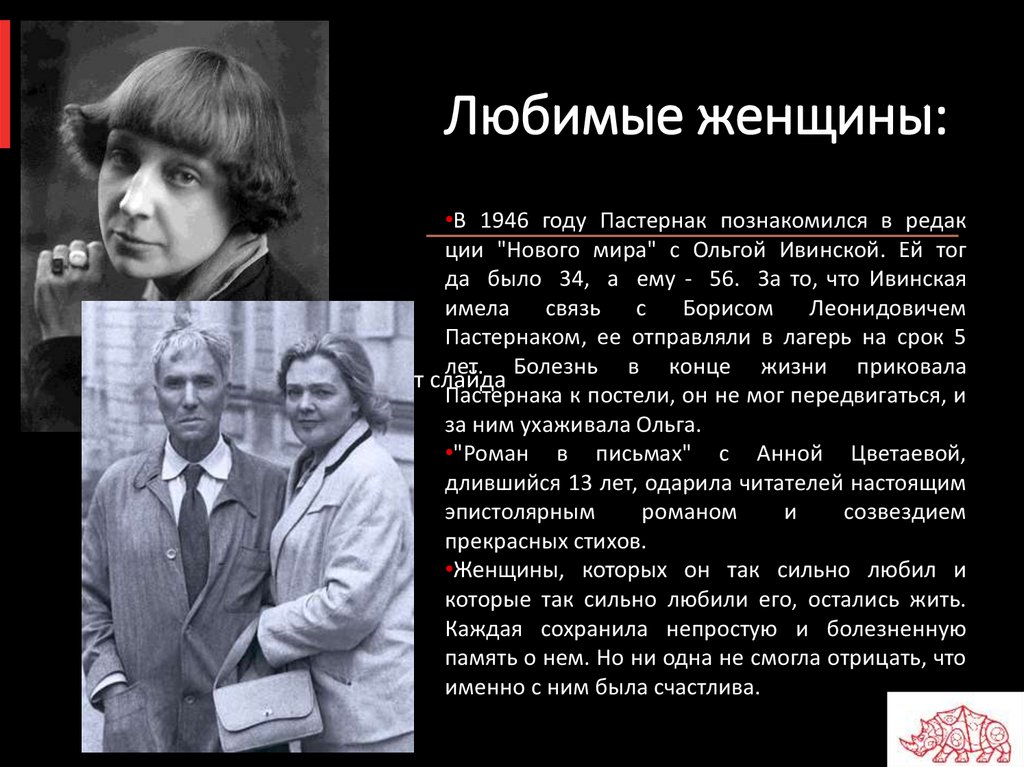 .. (Это не объяснение в любви, а объяснение в судьбе.)».
.. (Это не объяснение в любви, а объяснение в судьбе.)».
Из письма МЦ своей подруге О. Черновой: «С Б.П. мне не жить, но сына от него я хочу, чтобы он в нём через меня жил. Если это не сбудется, не сбылась моя жизнь, замысел её….».
МЦ обещает думать о нём и в свои последние минуты: «Борис, сделаем чудо. Когда я думаю о своем смертном часе, я всегда думаю: кого? Чью руку? И − только твою! Я не хочу ни священников, ни поэтов, я хочу того, кто только для меня одной знает слова, из-за, через меня их узнал, нашел. Я хочу такой силы в телесном ощущении руки. Я хочу твоего слова, Борис, на ту жизнь…»
6. РАЗЛУКА
Рас-стояние: вёрсты, мили…
Нас рас-ставили, рас-садили,
Чтобы тихо себя вели
По двум разным концам земли.
Рас-стояние: вёрсты, дали…
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв,
И не знали, что это − сплав
Вдохновений и сухожилий…
Не рассо́рили − рассори́ли,
Расслоили…
Стена да ров.
Расселили нас, как орлов-
Заговорщиков: вёрсты, дали…
Не расстроили − растеряли.
По трущобам земных широт
Рассовали нас, как сирот.
Который уж, ну который − март?!
Разбили нас − как колоду карт!
(МЦ, 24 марта 1925 г. )
)
Это стихотворение Марина Цветаева посвятила Борису Пастернаку. Вдали от России она чувствовала себя чужой. И даже те, кто бежал из СССР, не были её близки ни по духу, ни по творчеству. Переписка с Борисом Пастернаком стала тем живительный источником, который питал её желание писать и жить.
Родная душа − Поэт − ни с чем не сравнимое счастье, страшно было спугнуть и потерять его. Может быть, в этом подсознательная причина предчувствия разлуки? Дорвавшись до родной души, Цветаева жаждет с ней слиться, отдать ей свою. Для нее, как всегда, отдать важнее, чем присвоить. Она делает это в стихах – проза и письма не могут вместить беспредельности и интенсивности ее чувств.
МЦ пишет в те годы: «Если я умру, не встретив с тобой такого, — моя судьба не сбылась, я не сбылась, потому что ты моя последняя надежда на всю меня, ту меня, которая есть и которой без тебя не быть. Пойми степень насущности для меня того рассвета».
Пойми степень насущности для меня того рассвета».
Оторвавшись от России, не влившись в эмиграцию, Марина постепенно становилась как бы неким островом, отделившимся от родного материка − течением Истории и собственной судьбы. Становилась одинокой, как остров, со всеми своими неразведанными сокровищами…
Пастернак остро и болезненно ощутил эту отторгнутость Марины, неумолимую последовательность, с которой обрывались связующие её с Россией нити живых человеческих отношений.
Как человек высокоинтеллектуальный, Марина по силе своего таланта, характера, да и самой сути, перестраивала и перекраивала собеседников на свой особый, не свойственный окружающим, лад. Не каждый выдерживал такое напряжение ума.
Увы, с каждым годом пропасть, разделяющая поэтов, все больше увеличивалась. Таяли надежды на долгожданную встречу. В 1930 г. Пастернак ушёл от первой жены − художницы Евгении Лурье ради новой любовной страсти − пианистки Зинаиды Нейгауз. В его жизни всё меньше остается места для «родственной души» Марины Цветаевой…
В его жизни всё меньше остается места для «родственной души» Марины Цветаевой…
7. КРИК
Вчера еще в глаза глядел,
А нынче − все косится в сторону!
Вчера еще до птиц сидел, −
Все жаворонки нынче − вороны!
Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая.
О вопль женщин всех времен:
«Мой милый, что тебе я сделала?!»
И слезы ей − вода, и кровь −
Вода, − в крови, в слезах умылася!
Не мать, а мачеха − Любовь:
Не ждите ни суда, ни милости.
Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая…
И стон стоит вдоль всей земли:
«Мой милый, что тебе я сделала?»
Вчера еще − в ногах лежал!
Равнял с Китайскою державою!
Враз обе рученьки разжал, −
Жизнь выпала − копейкой ржавою!
Детоубийцей на суду
Стою − немилая, несмелая.
Я и в аду тебе скажу:
«Мой милый, что тебе я сделала?»
Спрошу я стул, спрошу кровать:
«За что, за что терплю и бедствую?»
«Отцеловал − колесовать:
Другую целовать», − ответствуют.
Жить приучил в самом огне,
Сам бросил − в степь заледенелую!
Вот что ты, милый, сделал мне!
Мой милый, что тебе − я сделала?
Все ведаю − не прекословь!
Вновь зрячая − уж не любовница!
Где отступается Любовь,
Там подступает Смерть-садовница.
Само − что дерево трясти! −
В срок яблоко спадает спелое…
− За все, за все меня прости,
Мой милый, − что тебе я сделала!
(МЦ)
8. БЕЗНАДЁЖНОСТЬ
БЕЗНАДЁЖНОСТЬ
Пересмотрите все мое добро,
Скажите − или я ослепла?
Где золото мое? Где серебро?
В моей руке − лишь горстка пепла!
И это всё, что лестью и мольбой
Я выпросила у счастливых.
И это всё, что я возьму с собой
В край целований молчаливых.
(МЦ)
…Ничто не вечно под луною…Их роман подходил к концу. Цветаева пишет Пастернаку 31 декабря 1931 г.: «Каждое наше письмо − последнее. Однo − последнее до встречи, другoе − последнее навсегда. Может быть, оттого что редко пишем, что каждый раз − все заново. Душа питается жизнью, здесь (в переписке) душа питается душой, саможорство, безвыходность… Борис, я с тобой боюсь всех слов, вот причина моего неписанья. Ведь у нас кроме слов нет ничего, мы на них обречены… Совсем проще: я просто годы никого не целовала − кроме Мура и своих, когда уезжали. − Нужно ли тебе это знать? … Если я умру, не встретив с тобой такого, − моя судьба не сбылась, я не сбылась, потому что ты моя последняя надежда на всю меня, ту меня, которая есть и которой без тебя не быть. Пойми степень насущности для меня того рассвета…»
Может быть, оттого что редко пишем, что каждый раз − все заново. Душа питается жизнью, здесь (в переписке) душа питается душой, саможорство, безвыходность… Борис, я с тобой боюсь всех слов, вот причина моего неписанья. Ведь у нас кроме слов нет ничего, мы на них обречены… Совсем проще: я просто годы никого не целовала − кроме Мура и своих, когда уезжали. − Нужно ли тебе это знать? … Если я умру, не встретив с тобой такого, − моя судьба не сбылась, я не сбылась, потому что ты моя последняя надежда на всю меня, ту меня, которая есть и которой без тебя не быть. Пойми степень насущности для меня того рассвета…»
Да, своей кульминации их роман достиг в середине 20-х годов. 1931-1935 годы – затянувшаяся развязка. В начале 1931 г. приехавший из Москвы известный писатель Б. Пильняк рассказывал, что «Борис совершенно здоров» и разошелся с женой.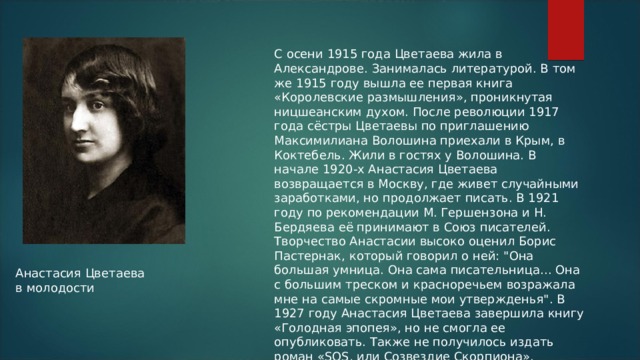 О новой любви Пастернака Цветаева знала прежде, но развод и последовавшая за ним женитьба вызвали ее ревность. В феврале в письме к своей знакомой Р. Ломоносовой Марина Ивановна всерьез рассуждала: «С Борисом у нас уже восемь лет тайный уговор: дожить друг до друга… Поймите меня правильно: я, зная себя, наверное, от своих к Борису бы не ушла, но если бы ушла – то только к нему».
О новой любви Пастернака Цветаева знала прежде, но развод и последовавшая за ним женитьба вызвали ее ревность. В феврале в письме к своей знакомой Р. Ломоносовой Марина Ивановна всерьез рассуждала: «С Борисом у нас уже восемь лет тайный уговор: дожить друг до друга… Поймите меня правильно: я, зная себя, наверное, от своих к Борису бы не ушла, но если бы ушла – то только к нему».
И убеждала себя, как пишет А. Саакянц, в том, что «если бы Пастернак оказался за границей или она – в Москве, то никакой второй женитьбы Пастернака не было бы». Противопоставляя «быт» и «бытие» в жизни, в отношениях с людьми Марина Ивановна почему-то эти два понятия соединяла, а иногда и подменяла одно другим.
…Но годы шли, а планы, не претворенные в действие, расплывались и рассеивались, а судьба оставалась ложной и невыносимой, а дети и заботы росли, а письма, начиная с 1931 года, приходили все реже.
«Стихи устали», − говорила маленькая в ту пору дочь МЦ Ариадна Марине, когда ей не писалось.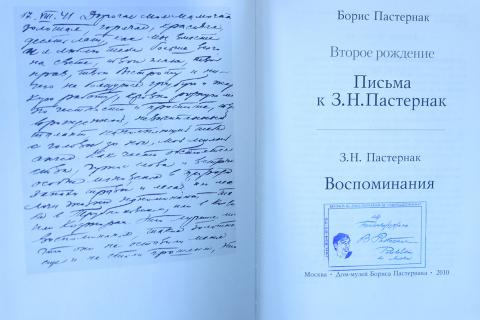 Наступило время, когда «устали» пастернаковы письма. Почувствовав это по неуловимому сперва изменению их тональности, Марина перестала вызывать их на себя; выдерживала чрезмерно долгие «контрольные» паузы между получением их и ответом; в ответе же не усмиряла накапливавшейся горечи:
Наступило время, когда «устали» пастернаковы письма. Почувствовав это по неуловимому сперва изменению их тональности, Марина перестала вызывать их на себя; выдерживала чрезмерно долгие «контрольные» паузы между получением их и ответом; в ответе же не усмиряла накапливавшейся горечи:
«Борис, я соскучилась по русской природе, по лопухам, по неплющевому лесу, по себе − там. Если бы можно было родиться заново … У меня сейчас чувство, что я уже нигде не живу. У меня вообще атрофия настоящего, не только не живу, никогда в нем и не бываю. Борис, у меня нет ни друзей, ни денег, ни свободы, ничего, только тетрадь. И ее у меня нет. За что?..»
9. «НЕВСТРЕЧА» − ОДИНОЧЕСТВО
Одиноко брожу по земле,
Никому не желанен, не мил…
В целом мире не встретился мне,
Кто бы горе мое разделил.
Если б в слезы кровавые вновь
Мог я все свое горе излить,
Я бы выплакал всю свою кровь,
Чтоб с людьми ничего не делить.
(МЦ)
В начале 30-х годов, хотя переписка, а значит и отношения продолжаются, но прежней близости и неистовства уже нет.
В 1935 г., через десять лет после несбывшейся «встречи в Веймаре», о которой так хорошо мечталось, состоялось их «беглое и бедное свидание в Париже, за кулисами Всемирного конгресса деятелей культуры» (А. Эфрон), которое сама Цветаева назовет «невстречей». Вообще встреч с «героями» своих романов Марина Ивановна всегда опасалась и избегала (это случилось раньше, в 1923 г., и по отношению к Пастернаку: он был в Берлине, но вместе с женой, и Цветаева не смогла, а скорее всего – не захотела приехать, заранее объясняя свои опасения в письме: «Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбами».)
Эта «невстреча» в Париже окончательно разделяет их. Цветаева не поймет и не услышит Пастернака. Она увидела больного человека, находившегося в состоянии, близком к нервному расстройству, поэта, находящегося в тот момент в глубоком творческом и нравственном кризисе. «Признававшая только экспрессии, никаких депрессий Марина не понимала, болезнями не считала, они ей казались просто дурными чертами характера, выпущенными на поверхность – расхлябанностью, безволием, эгоизмом, слабостями, на которые человек (мужчина!) не вправе», − пишет в своих воспоминаниях А. Эфрон. Никакого сочувствия, соучастия и даже попытки понять со стороны Марины Ивановны не было.
Цветаева не поймет и не услышит Пастернака. Она увидела больного человека, находившегося в состоянии, близком к нервному расстройству, поэта, находящегося в тот момент в глубоком творческом и нравственном кризисе. «Признававшая только экспрессии, никаких депрессий Марина не понимала, болезнями не считала, они ей казались просто дурными чертами характера, выпущенными на поверхность – расхлябанностью, безволием, эгоизмом, слабостями, на которые человек (мужчина!) не вправе», − пишет в своих воспоминаниях А. Эфрон. Никакого сочувствия, соучастия и даже попытки понять со стороны Марины Ивановны не было.
В 1937 г., вспоминая то время, в письме к родителям Борис Леонидович напишет: «Когда меня посылали в Париж и я был болен…причины были в воздухе, и – широчайшего порядка: меня тошнило, что из меня делали, − помните? − меня угнетала утрата принадлежности себе…».
Трагедия несвободы художника, творца, остро переживаемая Пастернаком, столкнувшимся с «нелепостями» жизни, «становящимися препятствиями» (в т. ч. культ личности Сталина и всё, что было тогда с этим связано в СССР – М.Л.), прошла мимо сознания Цветаевой. Как ни странно, она была поглощена другим: Борис Леонидович говорил о своей жене, о том, что тоскует по ней, а однажды даже попросил Марину Ивановну примерить платье, которое хотел привезти Зинаиде Николаевне в подарок. Этого Цветаева не сможет простить и забыть. Уже в Москве в 1941 г. она очень зло изобразит «Пастернака в Париже, как беспомощно он искал платье «для Зины»… комическое выражение лица «Бориса» при этом и осанку его жены». Резкость слов Марины Ивановны неприятно поразит литературного критика Эмму Герштейн, и она сохранит этот эпизод в своих воспоминаниях.
ч. культ личности Сталина и всё, что было тогда с этим связано в СССР – М.Л.), прошла мимо сознания Цветаевой. Как ни странно, она была поглощена другим: Борис Леонидович говорил о своей жене, о том, что тоскует по ней, а однажды даже попросил Марину Ивановну примерить платье, которое хотел привезти Зинаиде Николаевне в подарок. Этого Цветаева не сможет простить и забыть. Уже в Москве в 1941 г. она очень зло изобразит «Пастернака в Париже, как беспомощно он искал платье «для Зины»… комическое выражение лица «Бориса» при этом и осанку его жены». Резкость слов Марины Ивановны неприятно поразит литературного критика Эмму Герштейн, и она сохранит этот эпизод в своих воспоминаниях.
И ещё после этой печальной «невстречи» она напишет ему эти горькие и яркие − яростные строки, которые приведу с некоторыми сокращениями:
Пастернаку Б.Л. конец октября 1935 г.
«Дорогой Борис! Отвечаю сразу − бросив всё (полу-вслух, как когда читаешь письмо. Иначе начну думать, а это заводит далёко). …Здесь предел моего понимания, человеческого понимания.
Иначе начну думать, а это заводит далёко). …Здесь предел моего понимания, человеческого понимания.
….Ибо вы в последнюю минуту − отводили руку и оставляли меня, давно выбывшую из семьи людей, один на один с моей человечностью. Между вами, нечеловеками, я была только человек.
Собой (душой) я была только в своих тетрадях и на одиноких дорогах − редких, ибо я всю жизнь − водила ребенка за руку. На «мягкость» в общении меня уже не хватало, только на общение: служение: бесполезное жертвоприношение. О вашей мягкости: Вы − ею − откупаетесь, затыкаете этой гигроскопической ватой дыры ран, вами наносимых, вопиющую глотку − ранам. О, вы добры, вы при встрече не можете первыми встать, ни даже откашляться для начала прощальной фразы − чтобы «не обидеть». Вы «идете за папиросами» и исчезаете навсегда и оказываетесь в Москве, Волхонка, 14, или еще дальше. Роберт Шуман забыл, что у него были дети, число забыл, имена забыл, факт забыл, только спросил о старших девочках: всё ли у них такие чудесные голоса?
Но − теперь ваше оправдание − только такие создают такое. Ваш был и Гёте, не пошедший проститься с Шиллером и 10 лет не приехавший во Франкфурт повидаться с матерью − бережась для Второго Фауста − или еще чего-то, но − в 74 года осмелившийся влюбиться и решивший жениться − здесь уже сердца (физического!) не бережа. Ибо в этом вы − растратчики… Ибо вы от всего (всего себя, этой ужасной жути: нечеловеческого в себе, божественного в себе) лечитесь самым простым − любовью… Я сама выбрала мир нечеловеков − что же мне роптать? …Ну, живи. Будь здоров. Меньше думай о себе…»
Ваш был и Гёте, не пошедший проститься с Шиллером и 10 лет не приехавший во Франкфурт повидаться с матерью − бережась для Второго Фауста − или еще чего-то, но − в 74 года осмелившийся влюбиться и решивший жениться − здесь уже сердца (физического!) не бережа. Ибо в этом вы − растратчики… Ибо вы от всего (всего себя, этой ужасной жути: нечеловеческого в себе, божественного в себе) лечитесь самым простым − любовью… Я сама выбрала мир нечеловеков − что же мне роптать? …Ну, живи. Будь здоров. Меньше думай о себе…»
А вот ещё из её писем той поры: «О, Борис, «Борис, как я вечно о тебе думаю, физически оборачиваюсь в твою сторону − за помощью! Ты не знаешь моего одиночества…»
«Думаю о Борисе Пастернаке − он счастливее меня, потому что у него есть двое-трое друзей − поэтов, знающих цену его труду, у меня же ни одного человека, который бы − на час − стихи предпочел бы всему. Это − так. У меня нет друзей…»
Это − так. У меня нет друзей…»
10. РАССТАВАНИЕ
Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно −
Где совершенно одинокой
Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что − мой,
Как госпиталь или казарма.
Мне все равно, каких среди
Лиц ощетиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной − непременно −
Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично − на каком
Непонимаемой быть встречным!..
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все − равно, и все − едино.
Но если по дороге − куст
Встает, особенно − рябина…
Итак, переписка Марины Цветаевой с Борисом Пастернаком длилась с 1922 по 1935-36 годы, достигла апогея в двадцатые годы, а потом постепенно стала сходить на нет. Из разновременно предполагавшихся встреч не состоялась ни одна, кроме той – неудачной «невстречи» в июне 1935-го, когда Борис Леонидович приехал в Париж по самую маковку погруженный в свои личные переживания и события, среди которых, как почуялось Марине, места для нее не оставалось. Его отчужденность и околдованность не ею потрясли и глубочайше ранили ее, тем более, что ее заочность с Пастернаком была единственным ее оплотом и убежищем от реальных неудач и обид последних лет эмиграции.
МЦ просто не могла на расстоянии понять, что живя в советском обществе 20-30-х годов, которое было помимо всего прочего пропитано культом личности Сталина, шпиономанией и массовыми репрессиями, Пастернак не мог обо всём ей ни открыто сказать, ни написать…
В дальнейшем, по возвращении Марины в СССР, они виделись с Борисом Леонидовичем достаточно часто, он много и усердно помогал ей и поддерживал ее, но с заоблачностью их дружбы было покончено: однажды сойдя с такой высоты, вторично подняться на нее невозможно, как невозможно дважды войти в одну и ту же реку.
…Конечно, они очень переживали окончание этого необыкновенного романа в письмах, этой незаконченной любовной повести. Оба вспоминали при этом шекспировские строки: «Нет повести печальнее на свете…».
Особенно горько было Марине. Достаточно привести еще несколько отрывком из её писем:
«Борис, никогда ничто меня не утешит в этой утрате тебя…
Борис, а нам с тобой не жить. Не потому, что ты − не потому что я (любим, жалеем, связаны), а потому что и ты, и я из жизни − как из жил! Мы только встретимся − та самая секунда взрыва, когда еще горит фитиль и еще можно остановить и не останавливаешь….
Б.П., когда мы встретимся? Встретимся ли? Дай мне руку на весь тот свет, здесь мои обе − заняты!..
Борис, сделаем чудо. Когда я думаю о своем смертном часе, я всегда думаю: кого? Чью руку? И − только твою! Я не хочу ни священников, ни поэтов, я хочу того, кто только для меня одной знает слова, из-за, через меня их узнал, нашел. Я хочу такой силы в телесном ощущении руки. Я хочу твоего слова, Борис, на ту жизнь…»
Я хочу такой силы в телесном ощущении руки. Я хочу твоего слова, Борис, на ту жизнь…»
С 1936 г. они больше не переписывались. Все последующее – только эпилог романа. Их отношения продолжаются и после возвращения Цветаевой в СССР. По сути дела, Пастернак окажется чуть ли не единственным человеком, который на протяжении двух лет будет всегда готов откликнуться, помочь, но для обоих это отношения совершенно другого уровня: того, что было в 20-ые годы, по утверждению Пастернака, «больше в жизни…никогда не повторялось»….
11. ПРОЩАНИЕ (ЕЛАБУГА)
Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.
И в нем навек засело
Смиренье этих черт,
И оттого нет дела,
Что свет жестокосерд.
И оттого двоится
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы
Меж нас я не могу.
Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?
(БП)
18 июня 1939 года Марина Цветаева вернулась в СССР из эмиграции. С этого дня началась самая драматическая, хотя и короткая, часть «романа» поэтессы с родиной.
27 августа 1939 г. её дочь − Ариадну Эфрон арестовали, под пытками она дала признательные показания и была осуждена за «шпионаж» на 8 лет лагерей… 10 октября этого же года арестовали Сергея Яковлевича Эфрона. От дочери Цветаева ещё успеет получить весной 1941 года несколько писем – из лагеря в Коми АССР (Севжелдорлага), от мужа – уже никогда, ни строчки.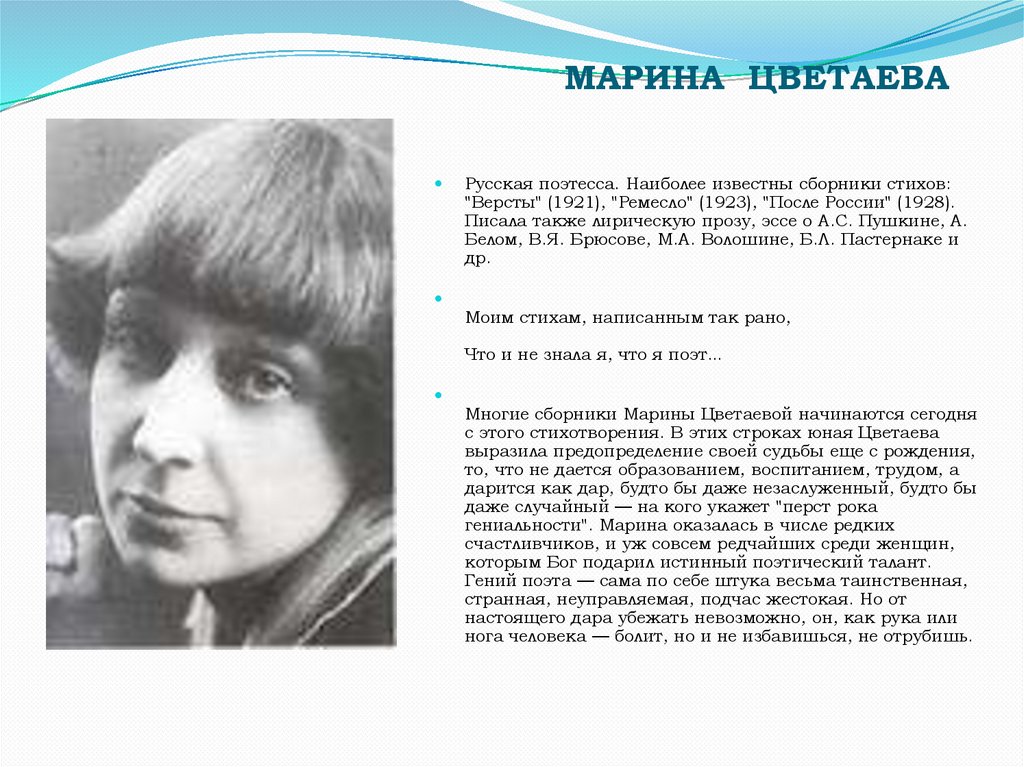
Начинаются бесконечные мытарства без постоянного жилья. Все это время Цветаева отчаянно мечтала встретиться с БП − со своим «братом в пятом времени года, шестом чувстве и четвертом измерении».
Борис Леонидович продолжал и тогда морально и материально помогать Цветаевой.
Известно, что как-то в начале лета 1941 г. Марина Ивановна приехала в Переделкино и Зинаида Николаевна, жена БП, обошла всех соседей, чтобы собрать необходимую сумму для оплаты квартиры МЦ на Покровском бульваре.
С Пастернаком Марина Ивановна будет советоваться, нужно ли ей уезжать из Москвы после начала бомбардировок города в июле 1941 года, но к совету его не прислушается. Борис Леонидович отговаривал ее от отъезда, т.к. Москва была источником договоров и заработка, сам он не мог себе позволить отрываться от нее. Он уедет из города только в октябре, когда оставаться дольше уже не будет возможности.
А 8 августа он провожал Марину Ивановну на речном вокзале в Елабугу.
Воспоминания об этих тяжелых проводах, о «невероятном страдании» в глазах Цветаевой сохранил молодой тогда поэт В. Боков, приехавший с Пастернаком из Переделкина: «Вряд ли уезжавшие знали, что их ждет в эвакуации. Не знал тогда и Пастернак, что сам отправится в Чистополь, но Марины уже не будет в живых».
Может быть, упреки Пастернака в свой адрес после гибели Цветаевой вызваны и мыслью о том, что, если бы он был ближе к ней, отговорил от поспешного отъезда, − а ведь он и не хотел, чтобы она уезжала, − тогда этого бы не произошло. Он мучился тем, что отпустил ее, уступив, как всегда, настойчивости ее желания, а он, как никто другой, знал, что «касается духовной области – она приверженица абсолютной монархии и монархом признает исключительно себя!» Цветаева сама строила свою судьбу, сама завязывала и развязывала дружбы, поступая так, как требовалось именно ей.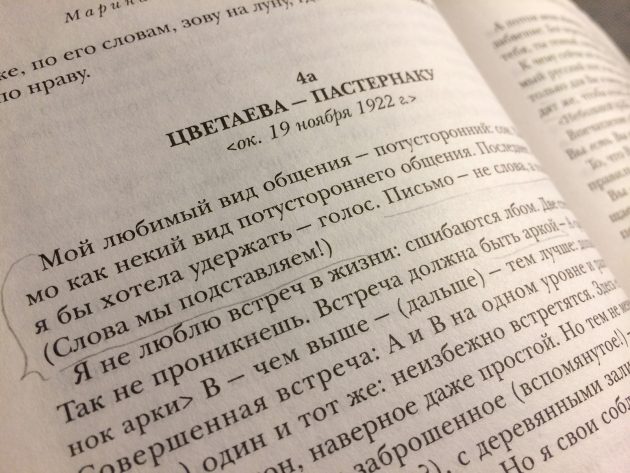 «Я ничего не могу изменить в движении моих стихий в движении к концу…».
«Я ничего не могу изменить в движении моих стихий в движении к концу…».
Как бы сложились их судьбы, если бы не война? Нам не дано этого знать. История не терпит сослагательных наклонений. Жизнь Цветаевой в итоге зашла в тупик, из которого она решила выйти через петлю, покончив жизнь самоубийством в августе 1941 года в Елабуге…
За то, что мне прямая неизбежность −
Прощение обид,
За всю мою безудержную нежность
И слишком гордый вид,
За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру…
− Послушайте! − Еще меня любите
За то, что я умру.
9 сентября 1941 года Б.Л Пастернак, потрясенный трагическим известием о гибели МЦ писал жене в Чистополь: «Вчера ночью Федин сказал мне, будто с собой покончила Марина. Я не хочу верить этому… Это никогда не простится мне… по многим причинам я отошел от нее и не навязывался ей, а в последний год как бы и совсем забыл. И вот тебе! Как это страшно». Строки этого письма широко известны и часто приводятся как подтверждение мучительного одиночества, покинутости всеми Цветаевой после ее возвращения в Россию. Если уж сам Пастернак, «заоблачный брат», «отошел от нее», «забыл», то чего же ждать от других! Но было ли на самом деле это отчуждение и забвение? Не писались ли эти строки Борисом Леонидовичем в минуты горя и ужаса, вызванного сообщением о смерти Цветаевой? Не преувеличены ли упреки в свой адрес?
Я не хочу верить этому… Это никогда не простится мне… по многим причинам я отошел от нее и не навязывался ей, а в последний год как бы и совсем забыл. И вот тебе! Как это страшно». Строки этого письма широко известны и часто приводятся как подтверждение мучительного одиночества, покинутости всеми Цветаевой после ее возвращения в Россию. Если уж сам Пастернак, «заоблачный брат», «отошел от нее», «забыл», то чего же ждать от других! Но было ли на самом деле это отчуждение и забвение? Не писались ли эти строки Борисом Леонидовичем в минуты горя и ужаса, вызванного сообщением о смерти Цветаевой? Не преувеличены ли упреки в свой адрес?
Нет, никто не имел права обвинить Пастернака в равнодушии к Цветаевой. Он сделал для нее больше, чем кто бы то ни был, то, что считал необходимым и возможным. Ему не перед кем было оправдываться. Только перед собой….
А вот что, десятилетие спустя, в октябре 1951 года, писал Пастернак дочери МЦ − Ариадне о годах своей высокой дружбы с Мариной: «…В течение нескольких лет меня держало в постоянной счастливой приподнятости все, что писала тогда твоя мама, звонкий, восхищающий резонанс ее рвущегося вперед, безоглядочного одухотворения. .. Больше в жизни это уже никогда не повторялось…»
.. Больше в жизни это уже никогда не повторялось…»
Вспоминая МЦ, БП писал о ней: «Она была более русской, чем мы все, не только по крови, но и по ритмам, жившим в её душе, по своему огромному и единственному по силе языку…»
Затем настало время, когда и баловень судьбы Пастернак попал к ней в немилость. В конце своей жизни он познал все те тяготы, которые сломали Марину – опалу, гонения от властей, травлю коллег, потерю друзей. Он умер в 1960 году от рака легких, пережив Цветаеву почти на 30 лет…
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Да, роману в письмах Бориса Леонидовича Пастернака и Марины Ивановны Цветаевой в этом году исполняется уже ровно СТО ЛЕТ. Не было у Марины сына от Б. Пастернака. НЕ случилось! Но остались стихи, рожденные их любовью. Не в этом ли и есть великая сила Любви?!. .
.
Единственные дни
На протяженье многих зим
Я помню дни солнцеворота,
И каждый был неповторим
И повторялся вновь без счета.
И целая их череда
Составилась мало-помалу −
Тех дней единственных, когда
Нам кажется, что время стало.
Я помню их наперечет:
Зима подходит к середине,
Дороги мокнут, с крыш течет
И солнце греется на льдине.
И любящие, как во сне,
Друг к другу тянутся поспешней,
И на деревьях в вышине
Потеют от тепла скворешни.
И полусонным стрелкам лень
Ворочаться на циферблате,
И дольше века длится день,
И не кончается объятье.
Борис Пастернак
Стихи, посвященные Борису Пастернаку
Знаю, умру на заре! На которой из двух,
Вместе с которой из двух − не решить по заказу!
Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!
Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!
Плящущим шагом прошла по земле! − Неба дочь!
С полным передником роз! − Ни ростка не наруша!
Знаю, умру на заре! − Ястребиную ночь
Бог не пошлёт на мою лебединую душу!
Нежной рукой отведя нецелованный крест,
В щедрое небо рванусь за последним приветом.
Прорезь зари − и ответной улыбки прорез…
− Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!
Марина Цветаева
Пройдут ещё и ещё годы и столетия, но навсегда сохранятся в нашей памяти два этих великих удивительных безмерно талантливых человека, которые оставили после себя уникальное поэтические наследие, а еще – письма, наполненные любовью, жизнью и надеждой…
С вами был автор рубрики «Поэтический календарь» Михаил Лиознов
Пастернак. Марина Цветаева
Пастернак
Когда я пишу, я ни о чем не думаю, кроме вещи. Потом, когда написано – о тебе. Когда напечатано – о всех.
Марина Цветаева – Борису Пастернаку
В течение нескольких лет меня держало в постоянной счастливой приподнятости все, что писала тогда твоя мама, звонкий, восхищающий резонанс ее рвущегося вперед, безоглядочного одухотворения.
Борис Пастернак – Ариадне Эфрон
В жизни Цветаевой отношения с Борисом Пастернаком явились уникальными, не похожими ни на какие другие. Если с героями ее увлечений все казалось – и оказывалось – преувеличенным, то теперь, даже поднимаясь на самые гиперболические высоты, чувства оставались вровень им обоим – и Цветаевой, и Пастернаку. Свалившись летом 1922 года, как снег на голову, первым письмом Пастернака и его книгой «Сестра моя – жизнь», отношения видоизменялись: то, как море, завладевали всей жизнью до самого горизонта, то превращались в едва бьющийся, но живой родник, – но никогда не иссякли совсем, протянулись до их последних дней. Можно с уверенностью сказать, что в жизни Цветаевой это были самые значительные человеческие отношения. И с уверенностью – что для нее они были значительнее, чем для Пастернака.
Они не укладываются в обычные мерки. Была ли то страсть или дружба, творческая близость или эпистолярный роман? Все вместе, неразрывно, питая и усиливая одно другое. В их отношениях каждый предстает в полном объеме своего человеческого облика и возможностей. Это удивительно, ибо в плане реальном: жизненных встреч, бытовых подробностей – связь Цветаевой с Пастернаком выглядит эфемерной, придуманной – полетом фантазии.
В их отношениях каждый предстает в полном объеме своего человеческого облика и возможностей. Это удивительно, ибо в плане реальном: жизненных встреч, бытовых подробностей – связь Цветаевой с Пастернаком выглядит эфемерной, придуманной – полетом фантазии.
Несколько – всегда случайных – встреч в Москве, до отъезда Цветаевой. Внезапное потрясение поэзией: Пастернака – «Верстами», Цветаевой – «Сестрой…». Восторг, чувство невероятной близости и понимания, настоящая дружба через границы – в стихах и письмах. Дважды – разминовение в Берлине: когда Цветаева уехала, не дождавшись его приезда, и когда она не смогла приехать проститься с Пастернаком перед его возвращением в Россию. Планы встреч – заведомо нереальные, но внушающие надежды и помогающие жить: летом 1925 года в Веймаре, городе обожаемого обоими Гёте. Конечно, не состоялось. Снова: в 1927 году вместе поедем к Райнеру Мария Рильке – тому, кто в современности олицетворял для них Поэзию. И не могло состояться – не только потому, что Рильке умер в последние дни 1926 года, но и потому, что в какой-то момент Цветаева отстранила Пастернака, захотела владеть этой любовью одна. .. После смерти Рильке Цветаева опять мечтает: «…ты приедешь ко мне и мы вместе поедем в Лондон. Строй на Лондон, строй Лондон, у меня в него давняя вера». Нужно ли говорить, что и с Лондоном ничего не вышло?
.. После смерти Рильке Цветаева опять мечтает: «…ты приедешь ко мне и мы вместе поедем в Лондон. Строй на Лондон, строй Лондон, у меня в него давняя вера». Нужно ли говорить, что и с Лондоном ничего не вышло?
Заочные, заоблачные отношения с Пастернаком стали существеннейшей частью жизни Цветаевой. Воспользовавшись выражением Эфрона, можно сказать, что Пастернак «растопил печь» сильнее, чем кто бы то ни было. Пастернаковский «ураган» несся с огромной силой вне конкретности встреч и расстояний. Духовное пламя пылало ярче и дольше, чем «растопленное» Родзевичем и другими. Сама Цветаева связала ощущение от встречи с Пастернаком с огнем. Получив «Темы и вариации», она писала ему: «Ваша книга – ожог… Ну, вот, обожглась, обожглась и загорелась, — и сна нет, и дня нет. Только Вы, Вы один» (выделено мною. – В. Ш.). Из этого огня рождались стихи, поэмы, письма, полубезумные мечты о жизни вместе – где, каким образом? Как увязать это с тем, что у каждого семья, дети? Что они разделены границей, становящейся все менее преодолимой?
Терпеливо, как щебень бьют,
Терпеливо, как смерти ждут,
Терпеливо, как вести зреют,
Терпеливо, как месть лелеют —
Буду ждать тебя. ..
..
Не «лирика» – ожиданье, растянувшееся на годы. Так когда-то, когда он был в Белой армии, Цветаева ждала мужа. В обращенном к Пастернаку цикле «Провода» мелькнул образ «далей донских», как бы случайно заскочивший из «Лебединого Стана» в чешские Мокропсы.
Стихотворный «пожар», вызванный дружбой с Пастернаком, продолжался много лет, начиная с берлинского «Неподражаемо лжет жизнь…» вплоть до написанного в 1934 году стихотворения «Тоска по родине! Давно…» – в общей сложности около сорока вещей. Стихи, посвященные Пастернаку, навеянные его личностью, поэзией, перепиской с ним, представляют собой огромный монолог, в котором изредка угадываются реплики адресата. Этот монолог растекается по разным руслам, охватывает все основное в мироощущении Цветаевой, в том числе и «мнимости», которые составляли самое существо и смысл ее жизни: душа, любовь, поэзия, Россия, разлука. Эти «мнимости» также важны Пастернаку – она была в этом уверена. Стихотворный поток предназначался из души в душу, не боясь чужого глаза, границ, непонимания. Адресат – всего лишь повод, чтобы стихи явились: Пастернак был лучшим из таких поводов, с ним она могла говорить, как с самой собой. Она воспринимала его как своего двойника и была уверена, что он читает все именно так, как она пишет. Пастернак был избран ею в идеальные читатели, и не обманул ее ожиданий. Был ли он тем Борисом Пастернаком, которого знали окружающие, которого мы теперь представляем себе по его опубликованной переписке, по воспоминаниям о нем? Я думаю, что с живым, но «заочным» Пастернаком Цветаева поступила, как поступала с поэтами в своих эссе-воспоминаниях: высвобождая из-под шелухи обыденного, строя свое отношение на сущности и отметая все мелкое, этой сущности чуждое. В Пастернаке главным был – Поэт, собрат, «равносущий» в «струнном рукомесле», способный откликаться на любой ее звук. И потому ее монолог к нему ширился, видоизменялся, оборачивался то восторгом, то торжественной речью, то страстным признанием и призывом, то рыданием. Накал страсти достигает предела в одном из самых драматических цветаевских циклов – «Провода».
Адресат – всего лишь повод, чтобы стихи явились: Пастернак был лучшим из таких поводов, с ним она могла говорить, как с самой собой. Она воспринимала его как своего двойника и была уверена, что он читает все именно так, как она пишет. Пастернак был избран ею в идеальные читатели, и не обманул ее ожиданий. Был ли он тем Борисом Пастернаком, которого знали окружающие, которого мы теперь представляем себе по его опубликованной переписке, по воспоминаниям о нем? Я думаю, что с живым, но «заочным» Пастернаком Цветаева поступила, как поступала с поэтами в своих эссе-воспоминаниях: высвобождая из-под шелухи обыденного, строя свое отношение на сущности и отметая все мелкое, этой сущности чуждое. В Пастернаке главным был – Поэт, собрат, «равносущий» в «струнном рукомесле», способный откликаться на любой ее звук. И потому ее монолог к нему ширился, видоизменялся, оборачивался то восторгом, то торжественной речью, то страстным признанием и призывом, то рыданием. Накал страсти достигает предела в одном из самых драматических цветаевских циклов – «Провода».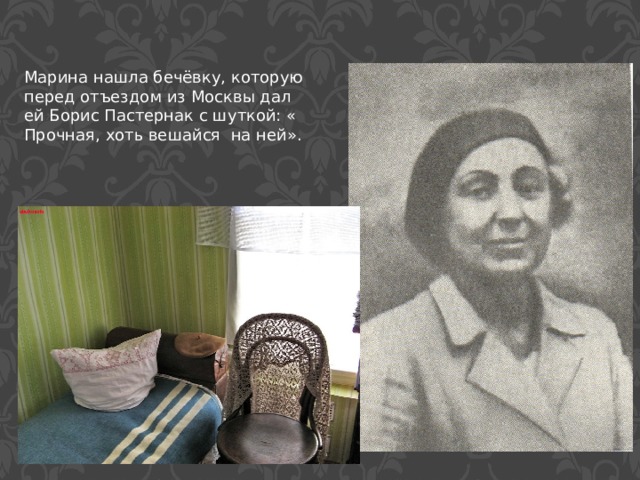 Лирическая героиня кидается от отчаяния к надежде, голос переходит с крика на шепот, ритм рвется, передавая прерывистую речь человека, спешащего высказать самое важное, задыхающегося от окончательности произносимых слов, от спазм, сжимающих горло:
Лирическая героиня кидается от отчаяния к надежде, голос переходит с крика на шепот, ритм рвется, передавая прерывистую речь человека, спешащего высказать самое важное, задыхающегося от окончательности произносимых слов, от спазм, сжимающих горло:
Чтоб высказать тебе… да нет, в ряды
И в рифмы сдавленные… Сердце – шире!
Боюсь, что мало для такой беды
Всего Расина и всего Шекспира!
«Всё плакали, и если кровь болит…
Всё плакали, и если в розах – змеи…»
Но был один – у Федры – Ипполит!
Плач Ариадны – об одном Тезее!
Терзание! Ни берегов, ни вех!
Да, ибо утверждаю, в счете сбившись,
Что я в тебе утрачиваю всех
Когда-либо и где-либо небывших!
Какие чаянья – когда насквозь
Тобой пропитанный – весь воздух свыкся!
Раз Наксосом мне – собственная кость!
Раз собственная кровь под кожей – Стиксом!
Тщета! во мне она! Везде! закрыв
Глаза: без дна она! без дня! И дата
Лжет календарная.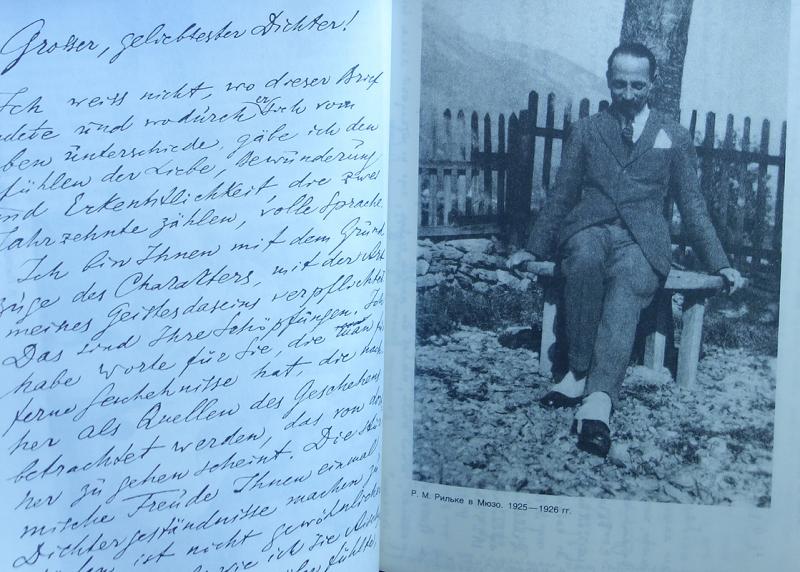 ..
..
Как ты – Разрыв,
Не Ариадна я и не …
– Утрата!
О по каким морям и городам
Тебя искать? (Незримого – незрячей!)
Я про?воды вверяю провода?м,
И в телеграфный столб упершись – плачу[176].
Написанные в марте 1923 года, когда их эпистолярно-поэтический роман лишь начинался, эти стихи уже «накликивали» беду, несмотря на то, что первое же письмо Пастернака не оставляло сомнений – она нашла родную душу! «Сестра моя – жизнь», а вслед за ней «Темы и вариации» подтверждали это. Родная душа-Поэт – ни с чем не сравнимое счастье, страшно было спугнуть и потерять его. Может быть, в этом подсознательная причина предчувствия разлуки? Дорвавшись до родной души, Цветаева жаждет с ней слиться, отдать ей свою. Для нее, как всегда, отдать важнее, чем присвоить. Она делает это в стихах – проза и письма не могут вместить беспредельности и интенсивности ее чувств. «Ведь мне нужно сказать Вам безмерное: разворотить грудь!» – пишет она Пастернаку, обещая «сделаться большим поэтом». И в другом письме: «Сумейте, наконец, быть тем, кому это нужно слышать, тем бездонным чаном, ничего не задерживающим (читайте внимательно!!!), чтоб сквозь Вас – как сквозь Бога – ПРОРВОЙ!» Прорвой «хлестали» стихи, и Пастернак сумел быть таким, каким хотела его видеть Цветаева, он брал так же щедро, как она давала. Его восторг перед ее поэзией, его отклики на все, что она ему посылала, сторицей возмещали недооценку критиков, еще усугублявшую остро ощущавшийся Цветаевой отрыв от мира. Пастернак связывал ее с тем миром, где оба они были небожителями.
И в другом письме: «Сумейте, наконец, быть тем, кому это нужно слышать, тем бездонным чаном, ничего не задерживающим (читайте внимательно!!!), чтоб сквозь Вас – как сквозь Бога – ПРОРВОЙ!» Прорвой «хлестали» стихи, и Пастернак сумел быть таким, каким хотела его видеть Цветаева, он брал так же щедро, как она давала. Его восторг перед ее поэзией, его отклики на все, что она ему посылала, сторицей возмещали недооценку критиков, еще усугублявшую остро ощущавшийся Цветаевой отрыв от мира. Пастернак связывал ее с тем миром, где оба они были небожителями.
Кульминация их отношений приходится на весну и лето 1926 года, когда, неожиданно для них обоих, Рильке стал участником их переписки. Его заочное присутствие придало их чувствам еще бо?льшую остроту и напряженность: Пастернак просит Цветаеву решить, может ли он приехать к ней сейчас или нужно ждать год, в течение которого он надеялся устроить свои московские дела. Тогда же, 18 мая 1926 года, он написал первое обращенное к ней стихотворение-акростих «Мельканье рук и ног, и вслед ему. ..». По сравнению с Цветаевой Пастернак гораздо скупее на выражение чувств в стихах: между 1926 и 1929 годами он написал ей три стихотворения. Скупее – и сдержаннее. «Пастернаковские» стихи Цветаевой органически сливаются с ее письмами к нему, это общая «прорва» ее безмерных чувств. Адресат – идеальная пара лирической героини, оторванная от нее волею судьбы. Эта мысль пронизывает все, что писала Цветаева к Пастернаку.
..». По сравнению с Цветаевой Пастернак гораздо скупее на выражение чувств в стихах: между 1926 и 1929 годами он написал ей три стихотворения. Скупее – и сдержаннее. «Пастернаковские» стихи Цветаевой органически сливаются с ее письмами к нему, это общая «прорва» ее безмерных чувств. Адресат – идеальная пара лирической героини, оторванная от нее волею судьбы. Эта мысль пронизывает все, что писала Цветаева к Пастернаку.
Pac-стояние: вёрсты, дали…
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв,
И не знали, что это – сплав
Вдохновений и сухожилий…
«Сплав вдохновений и сухожилий» – та идеальная, несбыточная близость, которой не суждено осуществиться; Цветаева находит подтверждение в трагических «разрозненных парах» древности. Ее стихи полны страсти и тоски, боль разлуки чередуется с надеждой на встречу:
Где бы ты ни был – тебя настигну,
Выстрадаю – и верну назад…
Если не здесь, в земном измерении – то во сне:
Весна наводит сон. Уснем.
Уснем.
Хоть врозь, а все ж сдается: всё
Разрозненности сводит сон.
Авось увидимся во сне.
Она уверяет его – и себя – что они могут быть счастливы: «Борис, Борис, как бы мы с тобой были счастливы – и в Москве, и в Веймаре, и в Праге, и на этом свете и особенно на том, который уже весь в нас». Да, в другой жизни – наверняка:
Дай мне руку – на весь тот свет!
Здесь – мои обе заняты.
Она повторяет это неоднократно. Посвящая Пастернаку цикл «Двое» (вариант названия – «Пара»), Цветаева писала: «Моему брату в пятом времени года, шестом чувстве и четвертом измерении – Борису Пастернаку».
Брат, но с какой-то столь
Странною примесью
Смуты…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
По гробовой костер —
Брат, но с условием:
Вместе и в рай и в ад!
Ее связь с Пастернаком воспринималась Цветаевой как мистический брак, в котором вдохновенье связывает крепче любых других уз:
Не в пуху – в пере
Лебедином – брак!
Браки розные есть, разные есть!
Она была уверена, что он принадлежит ей, эта уверенность держала, помогала противостоять повседневности. Этот «пожар» не вклинивался в ее семейную жизнь. В романе «Спекторский» Пастернак так определил отношения между героем и Марией Ильиной:
Этот «пожар» не вклинивался в ее семейную жизнь. В романе «Спекторский» Пастернак так определил отношения между героем и Марией Ильиной:
И оба уносились в эмпиреи,
Взаимоокрылившись, то есть врозь…
На мой взгляд, эти строки подтверждают справедливость мысли о влиянии личности Марины Цветаевой на образ героини «Спекторского» Марии Ильиной: Пастернак и Цветаева «взаимоокрылялись» в стихах и письмах, «то есть врозь», и связь их всегда была на уровне эмпирей[177].
Вереницею певчих свай,
Подпирающих Эмпиреи,
Посылаю тебе свой пай
Праха дольнего…
Сюжетные подробности в «Спекторском» не соответствуют житейской реальности встреч Пастернака и Цветаевой, но чувство, связывающее Спекторского и Ильину, их духовная близость и поглощенность друг другом прямо соотносятся с отношениями Пастернака и Цветаевой в годы, когда создавался «Спекторский». Мария Ильина – наиболее лирическое и интимное из всего, обращенного Пастернаком к Цветаевой в стихах.
В трех «цветаевских» стихотворениях двадцатых годов нет ничего от любовной лирики. Они обращены к другу-поэту и воспринимаются как над-личные. Не зная адресата, почти невозможно догадаться, что этот друг – женщина: в них присутствуют «олень», «поэт», «снег» – все слова мужского рода и безличное местоимение «ты». Лишь в конце стихотворения «Мельканье рук и ног, и вслед ему…» Пастернак проговаривается:
Ответь листвой, стволами, сном ветвей
И ветром и травою мне и ей.
(Курсив мой. – В. Ш.)
Эти стихи, как и «Мгновенный снег, когда булыжник узрен…», не оставляют сомнений в адресате, ибо являются акростихами, третье «Ты вправе, вывернув карман…» было помечено инициалами «М. Ц.» («Марине Цветаевой»). Может показаться, что эти над-личные стихи вопиюще противоречат страстному накалу писем Пастернака к Цветаевой – но только на первый взгляд. Стихи касались основного в их отношениях с Цветаевой – самосознания поэта. Главное в их необычайной близости – то, что оба были поэтами и одинаково воспринимали понятие «Поэт». Все остальное вытекало из этого или к этому пристраивалось. Естественно, что тема поэта звучит в их стихах друг другу и в самых интимных письмах. Закономерно и то, что в теоретических работах о поэзии Цветаева постоянно оборачивалась на Пастернака, его творчеству посвятила три статьи: «Световой ливень», «Эпос и лирика современной России (Владимир Маяковский и Борис Пастернак)» и «Поэты с историей и поэты без истории». В январе 1932 года Цветаева окончила «Поэт и Время» – с докладом под этим названием она выступила 21 января. В «Послесловии» она ссылалась на недавнее выступление Пастернака на дискуссии о поэзии[178]:
Все остальное вытекало из этого или к этому пристраивалось. Естественно, что тема поэта звучит в их стихах друг другу и в самых интимных письмах. Закономерно и то, что в теоретических работах о поэзии Цветаева постоянно оборачивалась на Пастернака, его творчеству посвятила три статьи: «Световой ливень», «Эпос и лирика современной России (Владимир Маяковский и Борис Пастернак)» и «Поэты с историей и поэты без истории». В январе 1932 года Цветаева окончила «Поэт и Время» – с докладом под этим названием она выступила 21 января. В «Послесловии» она ссылалась на недавнее выступление Пастернака на дискуссии о поэзии[178]:
«Сенсацией прений было выступление Пастернака. Пастернак сказал, во-первых, что
– Кое-что не уничтожено Революцией…
Затем он добавил, что
– Время существует для человека, а не человек для времени.
Борис Пастернак – там, я – здесь, через все пространства и запреты, внешние и внутренние (Борис Пастернак – с Революцией, я – ни с кем), Пастернак и я, не сговариваясь, думаем над одним и говорим одно.
Это и есть: современность».
Выступление Пастернака действительно оказалось сенсацией; обозреватель «Литературной газеты» подчеркнул: «Особняком стоит выступление Б. Пастернака» и назвал его «реакционными мыслями». Цитируя Пастернака, он продолжил фразу «кое-что не уничтожено революцией»: «Искусство оставлено живым как самое загадочное и вечно существующее. Но у нас «потому такая бестолочь, что на поэтов всё время кричат: „это надо“, „то надо“! Но прежде всего нужно говорить о том, что нужно самому поэту: время существует для человека, а не человек для времени…»
Отчет кончался зловеще – в те времена такие угрозы были понятны каждому: «Хорошо было бы Б. Пастернаку задуматься о том, кто и почему ему аплодирует». Среди аплодирующих была Цветаева. Знаменательно, что обозреватель «Литературной газеты» пишет слово «революция» с маленькой буквы, Цветаева – с большой.
Ее определение «Борис Пастернак – с Революцией» справедливо для мироощущения Пастернака, но слишком общо, чтобы выразить его сложные и менявшиеся представления. Отношение к Революции (с большой буквы) не совпадало с отношением ко времени революции. Принципиально Цветаева и Пастернак решали проблему Поэта и Времени одинаково:
Отношение к Революции (с большой буквы) не совпадало с отношением ко времени революции. Принципиально Цветаева и Пастернак решали проблему Поэта и Времени одинаково:
Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты – вечности заложник
У времени в плену.
(Курсив мой. – В. Ш.)
Но понимала ли Цветаева, как ограничена свобода Пастернака его положением внутри советской системы, все плотнее окружавшей саму повседневность художника? Могла ли представить двойное давление, которое он испытывает: Времени в философском понятии и плена современности, ежедневно и требовательно вмешивающейся в твою жизнь? Для Цветаевой это был только быт: навязчивый, тяжелый, иногда невыносимый, – от него возможно было отключиться, забыть его, сбыв с рук очередную бытовую заботу. Время в советском ощущении она узнала лишь по возвращении на родину: чувство зависимости от чего-то неуловимо-страшного, щупальцами пронизавшего все вокруг и стремящегося так же пронизать душу. Отгородиться от него, исключить его из своего мира практически невозможно; с мыслями о нем ежедневно просыпаешься утром и ложишься вечером. Тональность высказываний о современности Цветаевой и Пастернака определяется разницей повседневного времени, в котором жил каждый из них. При всем неприятии Цветаевой («Время! Я не поспеваю… ты меня обманешь… ты меня обмеришь…») в ее чувстве времени нет зловещести, которая присуща стихам Пастернака. В первом из «цветаевских» стихотворений век-охотник гонит, травит оленя-поэта:
Отгородиться от него, исключить его из своего мира практически невозможно; с мыслями о нем ежедневно просыпаешься утром и ложишься вечером. Тональность высказываний о современности Цветаевой и Пастернака определяется разницей повседневного времени, в котором жил каждый из них. При всем неприятии Цветаевой («Время! Я не поспеваю… ты меня обманешь… ты меня обмеришь…») в ее чувстве времени нет зловещести, которая присуща стихам Пастернака. В первом из «цветаевских» стихотворений век-охотник гонит, травит оленя-поэта:
«Ату его, сквозь тьму времен! Резвей
Реви рога! Ату!..»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ему б уплыть стихом во тьму времен;
Такие клады в дуплах и во рту.
А тут носи из лога в лог: ату!
И обращаясь к веку, противопоставляя ему поэтов – его и ее – себя и Цветаеву, Пастернак спрашивает:
Век, отчего травить охоты нет?
Ответь листвой, стволами, сном ветвей
И ветром и травою мне и ей.
Цветаева отметила в этих стихах не «ату!», не травлю, а естественность пастернаковского оленя. Действительно, поэт у Пастернака – явление природы – всегда неожиданное, врывающееся в обыденность, как «дикий снег летом» – «бессмертная внезапность» (из стихотворения «Мгновенный снег, когда булыжник узрен…»). Но отношения поэта с его временем окрашены не только трагической (в высоком смысле) нотой, а чувством реального ужаса, гораздо более близкого мандельштамовскому «веку-волкодаву», чем цветаевскому «миру гирь», «миру мер», «где насморком назван – плач». В стихотворении «Прокрасться…» Цветаева предполагает:
А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем —
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени
На стенах…
Может быть – отказом
Взять? Вычеркнуться из зеркал?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Может быть – обманом
Взять? Выписаться из широт?..
В ее устах эти трагические вопросы облечены в форму романтической риторики. Для собратьев по «струнному рукомеслу» в Советской России вопрос об отношениях со временем ставился реальнее и грубее. В конечном счете речь шла о жизни и смерти. Не о том, чтобы
Для собратьев по «струнному рукомеслу» в Советской России вопрос об отношениях со временем ставился реальнее и грубее. В конечном счете речь шла о жизни и смерти. Не о том, чтобы
Распасться, не оставив праха
На урну… —
а о том, сохранить ли в себе поэта перед угрозой насильственной гибели или, предав поэта, стараться приспособиться и выжить. Об этом замечательно рассказала Надежда Мандельштам в своих книгах[179]. Жизнь современников Цветаевой в России была не трагичнее, но страшнее, чем у нее. Вспомним мандельштамовское:
И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.
Такого страха Цветаева не знала. Понимала ли она глубину обращенных к ней слов Пастернака?
Он думал: «Где она – сейчас, сегодня?»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Счастливей моего ли и свободней,
Или порабощенней и мертвей?»
Чувствовала ли, что «порабощенность» относится не столько к Вечности, сколько к повседневности, понимала ли буквальный смысл слов «до? крови кроил наш век закройщик» и «судеб, расплющенных в лепёху»? Могла ли представить себе, что акростих ей, предпосланный «Лейтенанту Шмидту», Пастернак снял в отдельном издании не по своей воле? В каком-то смысле они жили в разных измерениях и это, а не только особенности поэтического мышления каждого, выразилось в их стихах, обращенных друг к другу. Не исключено, что эта причина сыграла важную роль в их последующем отдалении и даже расхождении.
Не исключено, что эта причина сыграла важную роль в их последующем отдалении и даже расхождении.
Пастернаковские письма звучали по-другому. Читая их рядом со стихами к Цветаевой, видишь, как всё сегодняшнее, текущее, временное отпускает его, и он может жить в тех эмпиреях, куда его уносит вместе с нею. В письмах они невероятно близки, открыты – может быть, гораздо более, чем были бы при встрече. Книга, составленная из их переписки, стихов и отзывов друг о друге, – это повесть о высокой дружбе и любви. Конечно, и о любви. Ибо, невзирая на все более отдаляющуюся реальность встречи – или благодаря этому – это была любовь со своими взлетами, падениями, разрывами и примирениями. Временами их переписка походит на лихорадку. Их швыряет от темы к теме: от разбора «Крысолова» или «Лейтенанта Шмидта» они переходят к своим чувствам, к планам на будущее, к описанию природы или мыслям о людях. К их письмам можно с основанием отнести слова немецкого поэта Ф. Гёльдерлина, взятые Цветаевой эпиграфом к «Поэме Горы»: «О любимый! Тебя удивляет эта речь? Все расстающиеся говорят, как пьяные и любят торжественность». Они и были расстающимися—с первого оклика, несмотря на потоки писем, чувств, надежд. Подсознательно каждый из них знал, что судьба определила им быть «разрозненной парой».
Они и были расстающимися—с первого оклика, несмотря на потоки писем, чувств, надежд. Подсознательно каждый из них знал, что судьба определила им быть «разрозненной парой».
Но какая огромная разница – подсознательно знать и из чужих уст услышать! Когда в феврале 1931 года совершенно случайно от приехавшего из Москвы Бориса Пильняка Цветаева услышала, что Пастернак разошелся с женой, это оказалось для нее громом среди ясного неба. По горячим следам она описала Р. Н. Ломоносовой разговор с Пильняком:
«Вечер у Борисиного друга, французского поэта Вильдрака. Пригласил „на Пильняка“, который только что из Москвы. Знакомимся, подсаживается.
Я: – А Борис? Здоровье?
П.: – Совершенно здоров.
Я: – Ну, слава Богу!
П.: – Он сейчас у меня живет, на Ямской.
Я: – С квартиры выселили?
П.: – Нет, с женой разошелся, с Женей.
Я: – А мальчик?
П.: – Мальчик с ней…
…С Борисом у нас вот уже (1923 г. – 1931 г.) – восемь лет тайный уговор: дожить друг до друга. Но КАТАСТРОФА встречи все оттягивалась, как гроза, которая где-то за горами. Изредка – перекаты грома, и опять ничего – живешь».
Но КАТАСТРОФА встречи все оттягивалась, как гроза, которая где-то за горами. Изредка – перекаты грома, и опять ничего – живешь».
Пусть Цветаева утешает себя тем, что, будь она рядом, никакой новой жены не было бы, выделенное, как вопль, «КАТАСТРОФА» говорит больше любых слов. Катастрофа неосуществившейся встречи обернулась ненужностью встречи: «Наша реальная встреча была бы прежде всего большим горем (я, моя семья – он, его семья, моя жалость, его совесть). Теперь ее вовсе не будет. Борис не с Женей, которую он встретил до меня, Борис без Жени и не со мной, с другой, которая не я — не мой Борис, просто – лучший русский поэт. Сразу отвожу руки». Для Цветаевой это действительно была катастрофа: она теряла не потенциального мужа или возлюбленного, а «равносущего», единственного, кто понимал и принимал ее безусловно. Ведь только с Пастернаком она могла быть самой собой: Сивиллой, Ариадной, Эвридикой, Федрой… – Психеей… Но она знала, что в реальном мире Психее предпочитают Еву, которой она себя не считала, не была и не хотела быть.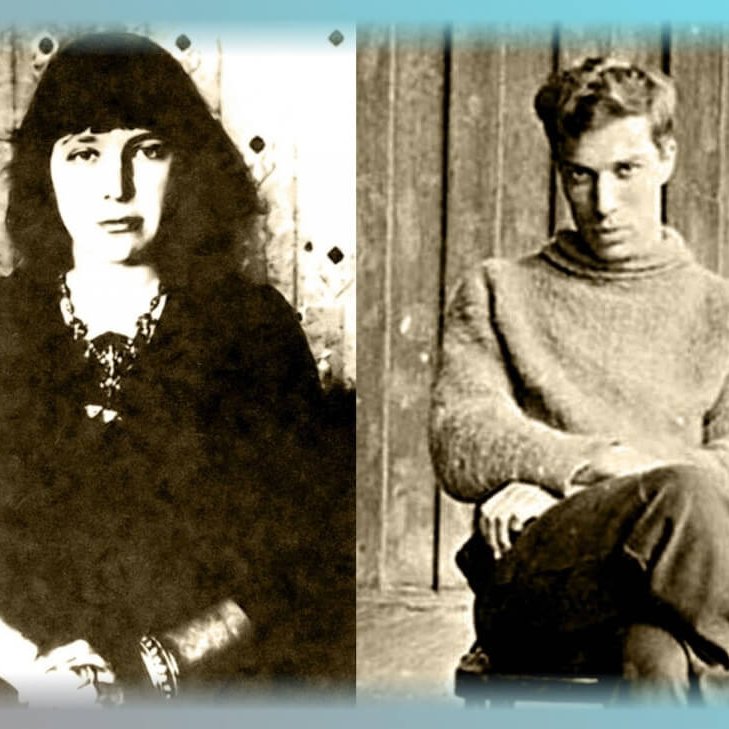 «Как жить с душой – в квартире?» — их отношения с Пастернаком никак не могли бы вписаться в рамку быта. И не она ли наколдовала восемь лет назад:
«Как жить с душой – в квартире?» — их отношения с Пастернаком никак не могли бы вписаться в рамку быта. И не она ли наколдовала восемь лет назад:
Не надо Орфею сходить к Эвридике
И братьям тревожить сестер.
Но сколько бы ни повторяла она это в стихах и письмах, как бы ясно ни отдавала себе отчет в том, что совместная жизнь с Пастернаком для нее невозможна, – его новая женитьба ощущалась изменой тому высочайшему, что связывало только их двоих. Удар был тем больнее, чем яснее она сознавала: это неповторимо, дважды такого не бывает. «Еще пять лет назад у меня бы душа разорвалась, но пять лет – это столько дней, и каждый учил – все тому же…» Надо было продолжать жить, и Цветаева знала, что будет. Предстояла еще «катастрофа встречи».
В конце июня 1935 года Пастернак приехал в Париж на Международный конгресс писателей в защиту культуры. Обстоятельства этой поездки известны: Пастернак долгое время находился в депрессии, ехать на конгресс отказался, но был вынужден личным распоряжением Сталина. Он пробыл в Париже 10 дней, с 24 июня по 4 июля. Где-то в кулуарах конгресса или в гостинице он виделся с Цветаевой и ее семьей – этим глаголом определил Пастернак свою встречу с ней в письме к Тициану Табидзе. Цветаева назвала это свидание «невстречей». «О встрече с Пастернаком (– была — и какая невстреча!) напишу, когда отзоветесь. Сейчас тяжело…» – делилась Цветаева с Тесковой.
Он пробыл в Париже 10 дней, с 24 июня по 4 июля. Где-то в кулуарах конгресса или в гостинице он виделся с Цветаевой и ее семьей – этим глаголом определил Пастернак свою встречу с ней в письме к Тициану Табидзе. Цветаева назвала это свидание «невстречей». «О встрече с Пастернаком (– была — и какая невстреча!) напишу, когда отзоветесь. Сейчас тяжело…» – делилась Цветаева с Тесковой.
Цветаева уехала с Муром к морю за неделю до отъезда Пастернака из Парижа. Можно понять: Мур только что перенес операцию аппендицита, его необходимо было как можно скорее увезти, дешевые билеты на поезд были взяты задолго до известия о приезде Пастернака – цветаевская бедность, чувство долга… Все это правда, но… если бы долгожданное свидание с Пастернаком оказалось той встречей, о которой они когда-то мечтали… Цветаева ринулась бы в нее, забыв обо всем – как она умела – переустроила свои дела и планы. Еще неделю быть с Пастернаком! Когда-то она была уверена, что ради этого помчится в любой конец Европы. Теперь оказалось не нужно – слишком многое день за днем вставало между ними. Вероятно, Пастернака уже перестало восхищать то, что пишет Цветаева; эволюция его собственного творчества уводила его в другую сторону. Косвенно это подтверждается его первым письмом после встречи в Париже: описывая симптомы своей многомесячной болезни, он относит к ним и то, «что имея твои оттиски, я не читал их». Прежде такого быть не могло: все, что писала Цветаева, было радостью, могло стать лекарством от любой болезни. Да и отзыв о цветаевских оттисках, прочитанных три месяца спустя, не по-пастернаковски сдержанный, «кислый». Вспомним письмо Пастернака к А. С. Эфрон, цитированное в эпиграфе к этой главке: «В течение нескольких лет…» Ко времени «невстречи» прошло уже тринадцать лет с начала их переписки.
Теперь оказалось не нужно – слишком многое день за днем вставало между ними. Вероятно, Пастернака уже перестало восхищать то, что пишет Цветаева; эволюция его собственного творчества уводила его в другую сторону. Косвенно это подтверждается его первым письмом после встречи в Париже: описывая симптомы своей многомесячной болезни, он относит к ним и то, «что имея твои оттиски, я не читал их». Прежде такого быть не могло: все, что писала Цветаева, было радостью, могло стать лекарством от любой болезни. Да и отзыв о цветаевских оттисках, прочитанных три месяца спустя, не по-пастернаковски сдержанный, «кислый». Вспомним письмо Пастернака к А. С. Эфрон, цитированное в эпиграфе к этой главке: «В течение нескольких лет…» Ко времени «невстречи» прошло уже тринадцать лет с начала их переписки.
Как бы то ни было, ни один из них не сумел преодолеть возникшую между ними грань. Этот комплекс слишком сложен и слишком мало достоверных свидетельств, чтобы настаивать на точном объяснении. Сюда входило и состояние Пастернака – его депрессия, владевший им страх, ощущение ложности своего положения на конгрессе, куда его привезли силком. И Цветаева – с ее гордой застенчивостью, затаенной обидой, со все углублявшимся чувством одиночества и семейного разлада, противостоять которому она не могла. Цветаева, не понимавшая, по словам ее дочери, никаких депрессий, не уловила в шепоте Пастернака ужаса его положения – и лишь высокомерно удивилась: «Борис Пастернак, на которого я годы подряд — через сотни верст – оборачивалась, как на второго себя, мне на Пис<ательском> Съезде шепотом сказал: – Я не посмел не поехать, ко мне приехал секретарь С<тали>на, я – испугался» (письмо к А. А. Тесковой). Пытался ли Пастернак объяснить ей правду? В автобиографическом очерке «Люди и положения» (1956 год) он так рассказал о центральном эпизоде их «невстречи»: «Члены семьи Цветаевой настаивали на ее возвращении в Россию. <…> Цветаева спрашивала, что я думаю по этому поводу.
Сюда входило и состояние Пастернака – его депрессия, владевший им страх, ощущение ложности своего положения на конгрессе, куда его привезли силком. И Цветаева – с ее гордой застенчивостью, затаенной обидой, со все углублявшимся чувством одиночества и семейного разлада, противостоять которому она не могла. Цветаева, не понимавшая, по словам ее дочери, никаких депрессий, не уловила в шепоте Пастернака ужаса его положения – и лишь высокомерно удивилась: «Борис Пастернак, на которого я годы подряд — через сотни верст – оборачивалась, как на второго себя, мне на Пис<ательском> Съезде шепотом сказал: – Я не посмел не поехать, ко мне приехал секретарь С<тали>на, я – испугался» (письмо к А. А. Тесковой). Пытался ли Пастернак объяснить ей правду? В автобиографическом очерке «Люди и положения» (1956 год) он так рассказал о центральном эпизоде их «невстречи»: «Члены семьи Цветаевой настаивали на ее возвращении в Россию. <…> Цветаева спрашивала, что я думаю по этому поводу. У меня на этот счёт не было определенного мнения. Я не знал, что ей посоветовать, и слишком боялся, что ей и ее замечательному семейству будет у нас трудно и неспокойно (выделено мною. – В. Ш.). Общая трагедия семьи неизмеримо превзошла мои опасения». Но Цветаевой в реальном мире всегда было «трудно и неспокойно» – ни эти слова, ни эпический тон Пастернака не соответствуют происшедшему. Долго держалась версия, что Пастернак пытался отговорить ее от возвращения. В первом издании этой книги я писала: «как она могла не расслышать крика в его шепотом произнесенных словах: „Марина, не езжай в Россию, там холодно, сплошной сквозняк“?[180] Ведь он кричал ее же стихами: «Чтоб выдул мне душу – российский сквозняк!» Не услышала… Может быть, он сам заглушил их другими словами…»
У меня на этот счёт не было определенного мнения. Я не знал, что ей посоветовать, и слишком боялся, что ей и ее замечательному семейству будет у нас трудно и неспокойно (выделено мною. – В. Ш.). Общая трагедия семьи неизмеримо превзошла мои опасения». Но Цветаевой в реальном мире всегда было «трудно и неспокойно» – ни эти слова, ни эпический тон Пастернака не соответствуют происшедшему. Долго держалась версия, что Пастернак пытался отговорить ее от возвращения. В первом издании этой книги я писала: «как она могла не расслышать крика в его шепотом произнесенных словах: „Марина, не езжай в Россию, там холодно, сплошной сквозняк“?[180] Ведь он кричал ее же стихами: «Чтоб выдул мне душу – российский сквозняк!» Не услышала… Может быть, он сам заглушил их другими словами…»
Но из письма Цветаевой Николаю Тихонову, с которым она познакомилась на этом съезде, разговор с Пастернаком предстает в ином свете: «От Бориса – у меня смутное чувство. Он для меня труден тем, что все, что для меня – право, для него – его, Борисин, порок, болезнь.
Как мне – тогда… – Почему ты плачешь? – Я не плачу, это глаза плачут. – Если я сейчас не плачу, то потому что решил всячески удерживаться от истерии и неврастении. (Я так удивилась – что тут же перестала плакать). – Ты – полюбишь Колхозы!
…В ответ на слезы мне – «Колхозы»!
В ответ на чувства мне – «Челюскин»!»
В тетради Цветаевой после этого двустишия подтверждено: «Б<орис> П<астернак> и я – Писательский Съезд…»
Теперь, когда опубликованы Сводные тетради Цветаевой, в черновике ее письма к Пастернаку эта драматическая история предстает в ином свете. Фраза «всё, что для меня – право, для него – … порок, болезнь» – еще раз утверждает неколебимость позиции Цветаевой: как и в 1932 году речь идет о свободе личности, поступиться которой для нее невозможно. Но взгляды Пастернака менялись, он пытался определить свое место в коллективе. «Я защищала право человека на уединение, – пишет Цветаева, – не в комнате, для писательской работы, а – в мире, и с этого места не сойду». Несколько лет назад для обоих эта идея формулировалась как «время для человека». Теперь Пастернак ощущает ее как «порок», он готов переломить себя, чтобы избавиться от «индивидуализма».
Несколько лет назад для обоих эта идея формулировалась как «время для человека». Теперь Пастернак ощущает ее как «порок», он готов переломить себя, чтобы избавиться от «индивидуализма».
Цветаева пытается объясниться:
«Вы мне – массы, я – страждущие единицы. Если массы вправе самоутверждаться – то почему же не вправе – единица? <…> Я вправе, живя раз и час, не знать, что? такое К<олхо>зы, так же как К<олхо>зы не знают, – что? такое – я. Равенство – так равенство.<…>
Странная вещь: что ты меня не любишь – мне все равно, а вот – только вспомню твои К<олх>озы – и слезы. (И сейчас плачу.)
<…> Мне стыдно защищать перед тобой право человека на одиночество, п. ч. все сто?ющие были одиноки…»
Это был крах: Цветаева потеряла последнего единомышленника. После такого открытия не стоило оставаться в Париже дольше. Настоящий разговор между ними не состоялся. Цветаева не посвятила его в конфликт, раздиравший ее семью, Пастернак не решился сказать ей о том, что происходит в Советской России и с ним самим. Тем не менее из записи Цветаевой видно, что Пастернак говорил с ней о возвращении в Россию и не совсем так, как помнилось ему через много лет: «Логически: что? ты мог другого, как не звать меня (фраза не окончена, но по логике текста ясно, что разговор шел о России. – В. Ш.). Раз ты сам не только в ней живешь, но в нее рвешься». И в следующей фразе Цветаева объясняет со свойственным ей благородством: «Ты давал мне лучшее, что? у тебя есть…»
Тем не менее из записи Цветаевой видно, что Пастернак говорил с ней о возвращении в Россию и не совсем так, как помнилось ему через много лет: «Логически: что? ты мог другого, как не звать меня (фраза не окончена, но по логике текста ясно, что разговор шел о России. – В. Ш.). Раз ты сам не только в ней живешь, но в нее рвешься». И в следующей фразе Цветаева объясняет со свойственным ей благородством: «Ты давал мне лучшее, что? у тебя есть…»
Илья Эренбург идиллически вспоминал о конгрессе: «В коридоре во время дебатов Марина Цветаева читала стихи Пастернаку»[181]. О чем можно говорить и какие стихи читать в коридоре? Надо было вырваться из людской толчеи, даже от близких, уединиться, сосредоточиться – на это Пастернака не хватило. Но через несколько дней в Лондоне Пастернак был откровенен с Р. Н. Ломоносовой, которая написала мужу: «Позавчера приехал Пастернак с группой других. Он в ужасном морально-физическом состоянии. Вся обстановка садически-нелепая. Писать обо всем невозможно. Расскажу… Жить в вечном страхе! Нет, уж лучше чистить нужники»[182]. Ломоносова связала депрессию Пастернака с «обстановкой» и страхом, Цветаева – нет. Даже если они с Пастернаком пытались что-то сказать друг другу, то «мимо», не слыша и не понимая один другого. Цветаева уехала из Парижа с тяжелым чувством – может быть, окончательной утраты. Впереди была еще встреча – через несколько лет в Москве.
Расскажу… Жить в вечном страхе! Нет, уж лучше чистить нужники»[182]. Ломоносова связала депрессию Пастернака с «обстановкой» и страхом, Цветаева – нет. Даже если они с Пастернаком пытались что-то сказать друг другу, то «мимо», не слыша и не понимая один другого. Цветаева уехала из Парижа с тяжелым чувством – может быть, окончательной утраты. Впереди была еще встреча – через несколько лет в Москве.
* * *
Полгода в Вандее окрашены Пастернаком – и Райнером Мария Рильке, которого «подарил» ей Пастернак. Это была невероятная щедрость с его стороны – пошла ли бы она сама на такое? Узнав от отца, что Рильке слышал о нем, читал и одобряет его стихи, Пастернак написал поэту, которого боготворил с юности. И в первом – и единственном – письме к Рильке он сказал ему о Цветаевой, дал ее парижский адрес, просил послать ей книги. Рильке исполнил его просьбу. Так завязалась их тройственная переписка[183]. Для Цветаевой это было таким же чудом, как дружба с самим Пастернаком, даже бо?льшим: если в Пастернаке она нашла «равносущего», то Рильке был для нее одним из богов, следующим воплощением Орфея: «Германский Орфей, то есть Орфей, на этот раз явившийся в Германии. Не Dichter (Рильке) – Geist der Dichtung» [Не поэт – дух поэзии, нем. – В. Ш.]. Это было решающей причиной того, что ей не приходило в голову самой обратиться к Рильке – как когда-то познакомиться с Блоком. Писать ему, получать от него письма и сборники с дарственными надписями, посылать ему свои книги и знать, что он держит их на письменном столе и старается читать (Рильке сильно отстал от русского языка, который хорошо знал в молодости) – этих переживаний было сверхдостаточно. Жизнь как бы приостановилась в ожидании встречи, свелась к стихам и напряженной переписке с Рильке и Пастернаком.
Не Dichter (Рильке) – Geist der Dichtung» [Не поэт – дух поэзии, нем. – В. Ш.]. Это было решающей причиной того, что ей не приходило в голову самой обратиться к Рильке – как когда-то познакомиться с Блоком. Писать ему, получать от него письма и сборники с дарственными надписями, посылать ему свои книги и знать, что он держит их на письменном столе и старается читать (Рильке сильно отстал от русского языка, который хорошо знал в молодости) – этих переживаний было сверхдостаточно. Жизнь как бы приостановилась в ожидании встречи, свелась к стихам и напряженной переписке с Рильке и Пастернаком.
Это не освобождало от повседневных забот: прогулок с Муром, сидения с детьми на пляже, купаний, базаров, стирки, завтраков, обедов, ужинов. Все же в письмах этого лета быт чувствуется менее остро, чем в другие времена. Жизнь текла складно, все были здоровы, Мур начинал ходить, Аля росла, Сергей Яковлевич отдыхал и набирался сил. Без неприятностей, правда, не обошлось. В середине лета Цветаева получила из Праги от В. Ф. Булгакова письмо, что ей прекращают выплачивать чешскую стипендию, если она не вернется в Чехословакию. «Ваше письмо уподобилось грому среди ясного неба, – отвечал Эфрон Булгакову. – Положение наше таково. Мы – понадеявшись на чешское (Завазалово) полуобещание, ухлопали все деньги, заработанные в Париже, на съемку помещения в Вандее, заплатив до середины октября. Собирались жить на Маринину литературную стипендию. Мое „Верстовое“ жалованье в счет не идет, ибо получаю с номера, а не помесячно, и гроши (давно уже проедены). И вот теперь, без предупреждения, этот страшный (не преувеличиваю) для нас материальный, а следовательно и всякий иной, удар. <…>
Ф. Булгакова письмо, что ей прекращают выплачивать чешскую стипендию, если она не вернется в Чехословакию. «Ваше письмо уподобилось грому среди ясного неба, – отвечал Эфрон Булгакову. – Положение наше таково. Мы – понадеявшись на чешское (Завазалово) полуобещание, ухлопали все деньги, заработанные в Париже, на съемку помещения в Вандее, заплатив до середины октября. Собирались жить на Маринину литературную стипендию. Мое „Верстовое“ жалованье в счет не идет, ибо получаю с номера, а не помесячно, и гроши (давно уже проедены). И вот теперь, без предупреждения, этот страшный (не преувеличиваю) для нас материальный, а следовательно и всякий иной, удар. <…>
Впервые за десять лет представилась возможность отдохнуть у моря и словно нарочно судьба смеется – направив удар именно сейчас.
Из литераторов в Париже все устроены, кроме нас. Чтобы устроиться – нужно пресмыкаться. Вы знаете Марину»[184].
Цветаева и Эфрон объясняли отказ в стипендии происками русских «друзей» – может быть, не без оснований. В Прагу из Сен-Жиля полетели письма и официальные прошения. Главным ходатаем был все тот же Булгаков, его Сергей Яковлевич просил связаться со всеми, кто мог помочь в этом деле. Через месяц стало известно, что стипендию Цветаевой, сократив с 1000 до 500 крон, оставили на два месяца – до ее возвращения в Чехию. Вопрос о стипендии еще выяснялся и утрясался, в результате в урезанном виде она была оставлена за Цветаевой на неопределенное время. Можно было жить во Франции. Эти волнения отнимали время, но не могли выбить Цветаеву из колеи. В письме, где она сообщала Пастернаку о возможности потерять этот единственный свой постоянный «заработок», она пишет о дошедшем до нее пренебрежительном отзыве Маяковского в статье «Подождем обвинять поэтов»: «Между нами — такой выпад Маяковского огорчает меня больше, чем чешская стипендия…» Это не фраза, только такого плана вещи могли ранить Цветаеву. По поводу остального, житейского, ее кипение, негодование оставались на поверхности души. Этим летом Цветаева написала три небольшие поэмы, внутренне связанные с Пастернаком и Рильке: «С моря», «Попытка Комнаты» и «Лестница».
В Прагу из Сен-Жиля полетели письма и официальные прошения. Главным ходатаем был все тот же Булгаков, его Сергей Яковлевич просил связаться со всеми, кто мог помочь в этом деле. Через месяц стало известно, что стипендию Цветаевой, сократив с 1000 до 500 крон, оставили на два месяца – до ее возвращения в Чехию. Вопрос о стипендии еще выяснялся и утрясался, в результате в урезанном виде она была оставлена за Цветаевой на неопределенное время. Можно было жить во Франции. Эти волнения отнимали время, но не могли выбить Цветаеву из колеи. В письме, где она сообщала Пастернаку о возможности потерять этот единственный свой постоянный «заработок», она пишет о дошедшем до нее пренебрежительном отзыве Маяковского в статье «Подождем обвинять поэтов»: «Между нами — такой выпад Маяковского огорчает меня больше, чем чешская стипендия…» Это не фраза, только такого плана вещи могли ранить Цветаеву. По поводу остального, житейского, ее кипение, негодование оставались на поверхности души. Этим летом Цветаева написала три небольшие поэмы, внутренне связанные с Пастернаком и Рильке: «С моря», «Попытка Комнаты» и «Лестница». Все три чрезвычайно сложно построены. «С моря» она определила как «вместо письма». И на самом деле, это как письмо – потому что написано пером по бумаге и в конце концов послано по почте. Но в то же время – и не письмо, отрицание письма, противоположность реальности письма – нереальность сна. Не ощущая никаких преград, вместе с морским ветром лирическая героиня из Сен-Жиля попадает в Москву, является во сне Пастернаку. Цветаева подчеркивает: «Ведь не совместный / Сон, а взаимный…» Поэма осуществляет загаданное в «Проводах»:
Все три чрезвычайно сложно построены. «С моря» она определила как «вместо письма». И на самом деле, это как письмо – потому что написано пером по бумаге и в конце концов послано по почте. Но в то же время – и не письмо, отрицание письма, противоположность реальности письма – нереальность сна. Не ощущая никаких преград, вместе с морским ветром лирическая героиня из Сен-Жиля попадает в Москву, является во сне Пастернаку. Цветаева подчеркивает: «Ведь не совместный / Сон, а взаимный…» Поэма осуществляет загаданное в «Проводах»:
…все?
Разрозненности сводит сон.
Авось увидимся во сне.
Во «взаимном» сне, в котором лирическая героиня и адресат одновременно видят друг друга, она приносит ему в подарок «осколки», выброшенные морем: крабьи скорлупки, ракушки, змеиную шкурку… Преломляясь в сновиденном воображении, они оказываются связанными с отношениями сновидящих – и с человеческими отношениями вообще:
Это? – какой-то любви окуски…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Это – уже нелюбви – огрызки:
Совести. Чем слезу
Лить-то – ее грызу…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Это – да нашей игры осколки
Завтрашние…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Стой-ка: гремучей змеи обноски:
Ревности! Обновись,
Гордостью назвалась.
Как бывает во сне, сюда вплетаются, казалось бы, совершенно посторонние мотивы: цензура, мысли о происхождении земли, о смысле рождения и жизни, о России… Все объединено морем: непонятным, чуждым человеческой радости и горю, но в восприятии лирической героини очеловеченным.
Море играло. Играть – быть добрым.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Море играло, играть – быть глупым…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Море устало, устать – быть добрым…
Одновременно оно олицетворяет разлуку, преодолеть которую может только сон:
Море роднит с Москвой. .. —
.. —
это последняя, несбыточная надежда Цветаевой… Однако в контексте она имеет конкретное воплощение: «Советоро?ссию с Океаном» роднит морская звезда. Символ советской России, отказавшейся от божественной Вифлеемской, – не новая красная пятиконечная, а древнейшая из древних – морская звезда:
Что на корме корабля Россия
Весь корабельный крах:
Вещь о пяти концах…
В подтексте едва слышна надежда на крах «Советоро?ссии», которая «обречена морской», гибельной звезде. И гораздо явственнее сквозь всю поэму – собственное имя автора: Марина, морская. Это себя вместе с морскими «осколками» и «огрызками» принесла она в подарок адресату своего письма-сна, себя со всем светлым и темным, что в ней есть. Ее именем объясняется почти мистическое совпадение. Тем же летом, посылая Цветаевой последнюю – французскую – книгу своих стихов «Vergers», Рильке в дарственном четверостишии тоже преподнес ей «дары моря»:
Прими песок и ракушки со дна
французских вод моей – что так странна —
души. ..
..
(пер. К. Азадовского)
Когда-то и Мандельштам оставил ей на память об остывшей дружбе песок Коктебеля:
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок…
Не с этим ли песком играет она теперь в Сен-Жиле, на берегу Океана?
Только песок, между пальцев, ливкий…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Только песок, между пальцев, плёский…
Мандельштам и Рильке – Цветаевой, Цветаева – Пастернаку. Что за странные подарки: песок, ракушки, крабьи скорлупки?
У вечности ворует всякий,
А вечность – как морской песок… —
сказано у Мандельштама. Даря друг другу «осколки» моря – вечности, – каждый из них подсознательно приобщается сам и приобщает другого к бессмертию – в стихах. Вот и у Цветаевой «С моря»:
Вечность, махни веслом!
Влечь нас…
«Попытка Комнаты» так же сновиденна и ирреальна, как и «С моря». Она возникала в ответ на вопрос Рильке: какой будет комната, где мы встретимся? Так рассказывала Цветаева, предваряя чтение поэмы[185]. Пытаясь представить место свидания, о котором мечтала, Цветаева – скорее всего, неожиданно для самой себя – обнаруживает в поэме, что оно не состоится, что ему нет места в реальности: свидание душ возможно лишь в «Психеином дворце», в потустороннем мире, на «тем свету»… Стены, пол, мебель, сам дом на глазах автора и читателя превращались в нечто неосязаемое, в пустоту между световым «оком» неба и зеленой «брешью» земли. И в этой пустоте герои становились бесплотными:
Пытаясь представить место свидания, о котором мечтала, Цветаева – скорее всего, неожиданно для самой себя – обнаруживает в поэме, что оно не состоится, что ему нет места в реальности: свидание душ возможно лишь в «Психеином дворце», в потустороннем мире, на «тем свету»… Стены, пол, мебель, сам дом на глазах автора и читателя превращались в нечто неосязаемое, в пустоту между световым «оком» неба и зеленой «брешью» земли. И в этой пустоте герои становились бесплотными:
…Над ничем двух тел
Потолок достоверно пел —
Всеми ангелами.
«Попытка Комнаты» предсказала не-встречу с Рильке, невозможность встречи. Оказалась свидетельством ее необязательности. Отказом от нее. Предвосхищением смерти Рильке. Но Цветаева осознала это, только когда над ней разразилась эта смерть.
Их переписка неожиданно оборвалась в августе 1926 года – Рильке перестал отвечать на ее письма. Кончилось лето, Цветаева с семьей переехала из Вандеи в Бельвю под Парижем; после улицы Руве они никогда больше не жили в городе и за следующие 12 лет сменили еще пять пригородов и шесть квартир.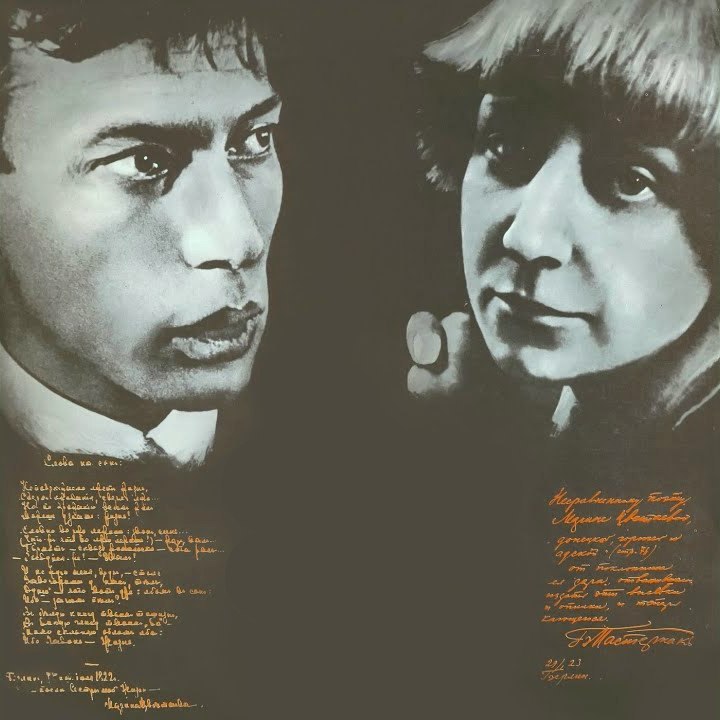 В начале ноября Цветаева послала Рильке открытку со своим новым адресом и единственным вопросом: «Ты меня еще любишь?» Ответа не последовало. Она знала, что Рильке нездоров, но не могла себе представить, что он болен смертельно и умирает. 29 декабря 1926 года Райнер Мария Рильке умер. Цветаева узнала об этом 31 декабря. Новый год начинался этой смертью.
В начале ноября Цветаева послала Рильке открытку со своим новым адресом и единственным вопросом: «Ты меня еще любишь?» Ответа не последовало. Она знала, что Рильке нездоров, но не могла себе представить, что он болен смертельно и умирает. 29 декабря 1926 года Райнер Мария Рильке умер. Цветаева узнала об этом 31 декабря. Новый год начинался этой смертью.
Двадцать девятого, в среду, в мглистое?
Ясное? – нету сведений! —
Осиротели не только мы с тобой
В это пред-последнее
Утро…
Этот первый отклик на весть о смерти был естественно обращен к Пастернаку: они осиротели вместе. Для каждого это сиротство осталось незаживающей раной и оказалось творческим стимулом. Цветаева пишет «Новогоднее» – первое посмертное письмо к Рильке, единственный у нее Реквием.
Почему – единственный? Позже она писала стихи на смерть поэтов: циклы памяти Владимира Маяковского (1930), Максимилиана Волошина (1932) и Николая Гронского (1935). Всех троих она знала лично. С Маяковским встречалась еще в Москве, следила за всем, что он пишет, и, вопреки эмигрантскому большинству, считала его настоящим поэтом и восхищалась силой его дарования. Ее открытое письмо к нему осенью 1928 года стало поводом для обвинения Цветаевой в просоветских симпатиях и полуразрыва с нею одних и полного разрыва других эмигрантских кругов. В частности, ежедневная газета «Последние новости» прервала публикацию стихов из «Лебединого Стана» и почти пять лет не печатала ничего цветаевского. Для нее это было тяжелым материальным ударом. По существу ничего «просоветского» в обращении Цветаевой к Маяковскому нет, оно между строк вычитывалось теми, кто хотел видеть в Маяковском только «поставившего свое перо в услужение… Советскому правительству и партии» (определение Маяковского)[186]. Для Цветаевой он был Поэтом – явлением более значительным, нежели любые политические, социальные, сиюминутные интересы. В поэзии Маяковского она видела выражение одной из сторон русской революции и современной русской жизни, и как всякий настоящий поэт он был ее братом по «струнному рукомеслу».
Ее открытое письмо к нему осенью 1928 года стало поводом для обвинения Цветаевой в просоветских симпатиях и полуразрыва с нею одних и полного разрыва других эмигрантских кругов. В частности, ежедневная газета «Последние новости» прервала публикацию стихов из «Лебединого Стана» и почти пять лет не печатала ничего цветаевского. Для нее это было тяжелым материальным ударом. По существу ничего «просоветского» в обращении Цветаевой к Маяковскому нет, оно между строк вычитывалось теми, кто хотел видеть в Маяковском только «поставившего свое перо в услужение… Советскому правительству и партии» (определение Маяковского)[186]. Для Цветаевой он был Поэтом – явлением более значительным, нежели любые политические, социальные, сиюминутные интересы. В поэзии Маяковского она видела выражение одной из сторон русской революции и современной русской жизни, и как всякий настоящий поэт он был ее братом по «струнному рукомеслу».
Самоубийство Маяковского в апреле 1930 года вызвало лицемерные официальные «оправдания» советских и потоки брани со стороны эмигрантов. Смерть поэта стала поводом не для осмысления его трагического пути, а для шельмования. В этом хоре цикл «Маяковскому», созданный Цветаевой в августе-сентябре, прозвучал диссонансом: для нее было бесспорным все, что вызывало споры вокруг его имени. Цветаева ввязывалась в полемику.
Смерть поэта стала поводом не для осмысления его трагического пути, а для шельмования. В этом хоре цикл «Маяковскому», созданный Цветаевой в августе-сентябре, прозвучал диссонансом: для нее было бесспорным все, что вызывало споры вокруг его имени. Цветаева ввязывалась в полемику.
Ушедший– раз в столетье
Приходит…
Не исключено, что это – прямой ответ В. Ходасевичу, утверждавшему при жизни и издевательски повторившему после смерти Маяковского: «Лошадиного поступью прошел он по русской литературе – и ныне, сдается мне, стоит уже при конце своего пути. Пятнадцать лет – лошадиный век» (выделено мною. – В. Ш.)[187]. Может быть, «лошадиная поступь» заставила Цветаеву обратить внимание на «устойчивые, грубые ботинки, подбитые железом», в которых лежал в гробу Маяковский. Эти слова из газеты она взяла эпиграфом к третьему стихотворению цикла.
В сапогах, подкованных железом,
В сапогах, в которых гору брал…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
В сапогах, в которых, понаморщась,
Гору нес – и брал – и клял[188] – и пел —…
Там, где эмигрантское большинство усматривало прислуживание большевикам, Цветаева видела служение Революции. Маяковский был и оставался «первым» и «передовым бойцом» современной революционной поэзии, ее «главарем», «…без Маяковского русская революция бы сильно потеряла, так же, как сам Маяковский – без Революции», – напишет она через два с половиной года. Тогда же она по-новому посмотрит на причину его самоубийства. Сейчас она принимает распространенную версию. В разгар работы над стихами памяти Маяковского Цветаева спрашивала Саломею Андроникову: «…как Вы восприняли конец Маяковского? В связи ли, по-Вашему, с той барышней, которой увлекался в последний приезд? Правда ли, что она вышла замуж?» Цветаева могла понять Маяковского: несколько лет назад она сама «рвалась к смерти» – и, может быть, только «Поэма Горы» и «Поэма Конца» спасли ее. Разве внутренний лейтмотив их не тот же, что в предсмертных стихах Маяковского: «Любовная лодка разбилась о быт…»? В щемящей жалости к Маяковскому излилась жалость и к себе, ко всем таким:
Разве внутренний лейтмотив их не тот же, что в предсмертных стихах Маяковского: «Любовная лодка разбилась о быт…»? В щемящей жалости к Маяковскому излилась жалость и к себе, ко всем таким:
– Враг ты мой родной!
Никаких любовных лодок
Новых – нету под луной.
Цветаева иронизирует над Маяковским, осуждавшим самоубийство Есенина, упрекает его в несоответствии самому себе:
Вроде юнкера, на То?ске
Выстрелившего – с тоски!
Парень! не по-маяковски
Действуешь: по-шаховски.
Но в ее иронии нет насмешки, она звучит трагически – самоубийство Маяковского оправдано трагедией.
Сложная структура цикла близка ранней поэме Маяковского «Человек». Шестое – центральное – стихотворение в намеренно-искаженном зеркале отражает главку «Маяковский в небе». Если Маяковский наглухо прячет трагедию под почти шутовской маской, сопровождаемой затасканной до пошлости песенкой Герцога из оперы Дж. Верди, то у Цветаевой трагедия выступает на первый план, едва прикрытая шутливой формой диалога. Встреча только что прибывшего на тот свет Маяковского и «старожила» Есенина проходит на фоне незримых кровавых теней погибших в последнее десятилетие поэтов: А. Блока, Ф. Сологуба, Н. Гумилева. Кажется, Цветаева приближается к решению вопроса о причине самоубийства Маяковского, но еще не додумывает свою мысль до конца. Главное – акт защиты: оградить от клеветы честь поэта, его доброе имя, провозгласить ему Вечную Память. Это в равной мере относится и к циклу памяти М. Волошина «Ici—haut». Позиция защитника, полемика и ирония, необходимые защитнику, приглушают непосредственное чувство потери. Смерть Маяковского и Волошина воспринимается отстраненно – без протеста, без острого горя, пронизывающего «Новогоднее». Плач, рыдание, то и дело прорывающиеся в нем, здесь отсутствуют. Основная в «Новогоднем» проблема бессмертия в циклах «Маяковскому» и «Ici—haut» молчаливо обходится, земное возобладает над небесным.
Встреча только что прибывшего на тот свет Маяковского и «старожила» Есенина проходит на фоне незримых кровавых теней погибших в последнее десятилетие поэтов: А. Блока, Ф. Сологуба, Н. Гумилева. Кажется, Цветаева приближается к решению вопроса о причине самоубийства Маяковского, но еще не додумывает свою мысль до конца. Главное – акт защиты: оградить от клеветы честь поэта, его доброе имя, провозгласить ему Вечную Память. Это в равной мере относится и к циклу памяти М. Волошина «Ici—haut». Позиция защитника, полемика и ирония, необходимые защитнику, приглушают непосредственное чувство потери. Смерть Маяковского и Волошина воспринимается отстраненно – без протеста, без острого горя, пронизывающего «Новогоднее». Плач, рыдание, то и дело прорывающиеся в нем, здесь отсутствуют. Основная в «Новогоднем» проблема бессмертия в циклах «Маяковскому» и «Ici—haut» молчаливо обходится, земное возобладает над небесным.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
XXV. Б.Л. Пастернак
XXV. Б.Л. Пастернак 1Уже в двадцатых годах я был глубоко заинтересован не только поэзией Б.Пастернака, но и независимостью жизненной позиции, резко выделявшей его из литературного круга. Однажды, разговаривая с И.Груздевым, старшим из «Серапионовых братьев», о позиции
Пастернак
Пастернак Когда я пишу, я ни о чем не думаю, кроме вещи. Потом, когда написано – о тебе. Когда напечатано – о всех. Марина Цветаева – Борису Пастернаку В течение нескольких лет меня держало в постоянной счастливой приподнятости все, что писала тогда твоя мама, звонкий,
ПАСТЕРНАК
ПАСТЕРНАК Среди многих обстоятельств и положений, постоянно мешавших Марине, заставлявших ее негодовать, разочаровываться и попросту страдать — особенно в эмиграции — наипервейшим препятствием был тот речевой барьер, та языковая преграда, которая отделяла ее от
ПАСТЕРНАК Борис
ПАСТЕРНАК Борис
ПАСТЕРНАК Борис (поэт, писатель: «Детство Люверс», «Доктор Живаго» и др. ; скончался 30 мая 1960 года на 71-м году жизни).
Еще за восемь лет до смерти, в октябре 1952 года, Пастернак перенес тяжелый инфаркт миокарда. После двух месяцев больницы он был отправлен в
; скончался 30 мая 1960 года на 71-м году жизни).
Еще за восемь лет до смерти, в октябре 1952 года, Пастернак перенес тяжелый инфаркт миокарда. После двух месяцев больницы он был отправлен в
Борис Пастернак
Борис Пастернак Борис ПастернакОсновное, что я считаю необходимым отметить, говоря о Пастернаке, и что, по-моему, является главным в личности и в творчестве Пастернака, это то, что он был в Советском Союзе одним из последних русских писателей и поэтов. Теперь осталась
Б.Л. Пастернак — В.Т. Шаламову
Б.Л. Пастернак — В.Т. Шаламову 9 июля 1952Дорогой Варлам Тихонович!В середине июня Ваша жена передала мне две Ваши книжки и записку. Я тогда же по собственному побуждению пообещал ей, что напишу Вам. Это очень трудно сделать. Я склоняюсь перед нешуточностью и суровостью Вашей
Б.
 Л. Пастернак — Г.И. Гудзь
Л. Пастернак — Г.И. ГудзьБ.Л. Пастернак — Г.И. Гудзь 15 июля 1952Глубокоуважаемая Галина Игнатьевна!Эту записку пишу на случай, если при поездке своей в город не застану Вас дома ни звонком ни посещением.Прочтите внимательно, что я пишу Вашему мужу. Я не мог написать ему ничего другого, потому что не
Б.Л. Пастернак — Г.И. Гудзь
Б.Л. Пастернак — Г.И. Гудзь 27 февр. 1953, Болшево.Дорогая Галина Игнатьевна.Здешний мой адрес до 20-го марта следующий: Ст. Болшево, Ярославской ж. д. Санаторий Академии наук СССР «Сосновый бор», мне. Если будет что-нибудь от Варлама Тихоновича, перешлите сюда. Прочитали ли Вы
Б.Л. Пастернак — Г.И. Гудзь
Б.Л. Пастернак — Г.И. Гудзь
7 марта 1953Дорогая Галина Игнатьевна!Благодарю Вас за пересылку письма Шаламова. Очень интересное письмо. Особенно верно и замечательно в нем все то, что он говорит о роли рифмы в возникновении стихотворения, о рифме как орудии поисков. Его
Особенно верно и замечательно в нем все то, что он говорит о роли рифмы в возникновении стихотворения, о рифме как орудии поисков. Его
Б.Л. Пастернак — В.Т. Шаламову
Б.Л. Пастернак — В.Т. Шаламову 18 дек. 1953Дорогой Варлам Тихонович!Если у Вас не прошло еще желание иметь эти слышанные стихи, то вот они, их мне переписали. Я не проверяю их, только в одном месте заменил одно слово.От души всего Вам лучшего. Ничего Вам не пишу, т. к. к концу года
Б.Л. Пастернак — В.Т. Шаламову
Б.Л. Пастернак — В.Т. Шаламову 4 июня 1954Дорогой мой Варлам Тихонович!Ваша синяя тетрадь, еще недочитанная мною, ходила по рукам и везде вызывала восторг. Я только сегодня получил ее обратно и увезу на дачу, где дочитаю до конца и перечту еще раз заново. Когда я принялся
Пастернак
Пастернак
Галина Лонгиновна Козловская:К Пастернаку было особое отношение, очень дружественное, с оттенком порой, я бы сказала, восхищенного изумления. Она неизменно радовалась его стихам, часто вспоминала их как музыку. Они всегда были при ней, в ее памяти. И если жизнь
Она неизменно радовалась его стихам, часто вспоминала их как музыку. Они всегда были при ней, в ее памяти. И если жизнь
41. Джо Пастернак
41. Джо Пастернак Йозеф Пастернак — личность весьма примечательная. Ровесник Марлен Дитрих, Пастернак, перебравшись после Первой мировой войны в Америку, воплотил мечту любого эмигранта. Поднимаясь по шаткой лестнице успеха, Джо успел поработать кондуктором в
ПАСТЕРНАК
ПАСТЕРНАК Среди многих обстоятельств и положений, постоянно мешавших Марине, заставлявших ее негодовать, разочаровываться и попросту страдать — особенно в эмиграции — наипервейшим препятствием был тот речевой барьер, та языковая преграда, которая отделяла ее от
Пастернак и Ивинская
Пастернак и Ивинская
Ольга Ивинская — редактор, переводчица, писательница. Подруга и муза поэта Бориса Пастернака в 1946–1960 годах.Когда они познакомились, ей было 34, ему — 56, она работала младшим редактором в журнале «Новый мир», он был известнейшим поэтом. Она — дважды
Подруга и муза поэта Бориса Пастернака в 1946–1960 годах.Когда они познакомились, ей было 34, ему — 56, она работала младшим редактором в журнале «Новый мир», он был известнейшим поэтом. Она — дважды
Б. Л. Пастернак
Б. Л. Пастернак 1Уже в двадцатых годах я был глубоко заинтересован не только поэзией Б. Пастернака, но и независимостью жизненной позиции, резко выделявшей его из литературного круга. Однажды, разговаривая с И. Груздевым, старшим из Серапионовых братьев, о позиции писателя
Марина Цветаева, Борис Пастернак. Души начинают видеть. Письма 1922—1936 годов. — М. : Вагриус, 2004
%PDF-1.6 % 1 0 obj > endobj 6 0 obj /Title /Subject (ISBN 5-9560-0143-7) >> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj > stream
 : Вагриус, 2004
: Вагриус, 2004О «Письме к амазонке» Марины Цветаевой
«ЛЮБОВЬ В СЕБЕ — это детство. Любовники — дети. У детей детей не бывает», — пишет русская поэтесса Марина Цветаева в своем «Письме к амазонке ». «Нельзя жить за счет любви, — продолжает она. «Единственное, что переживает любовь, — это ребенок».
Любовники — дети. У детей детей не бывает», — пишет русская поэтесса Марина Цветаева в своем «Письме к амазонке ». «Нельзя жить за счет любви, — продолжает она. «Единственное, что переживает любовь, — это ребенок».
В то время как взрослая жизнь Цветаевой была разорвана трагедиями, она сохранила детскую способность любить. У нее были страстные эпистолярные романы с двумя другими легендарными поэтами своего времени, Борисом Пастернаком и Райнером Марией Рильке. Она также вела оживленную, часто откровенную переписку с товарищами по изгнанию, покровителями, литературными протеже, учеными, интеллектуалами и потенциальными любовниками. В качестве примера можно привести письмо от 1932, адресованное из Парижа, где Цветаева жила обедневшей эмигранткой, Натали Барни, очаровательной наследнице состояния американских железнодорожников. Переведенное А’Дорой Филлипс и Гаэль Коган как «Письмо к амазонке », оно является образцом интенсивного эпистолярного стиля Цветаевой. Колебаясь между конфронтацией и соблазнением, он бросает вызов Барни, поборнику романтических и сексуальных отношений между женщинами. Женщины-любовники не могут иметь детей вместе, говорит Цветаева, — это «единственное слабое место, единственное уязвимое место, единственная брешь в совершенном единстве двух любящих друг друга женщин».
Женщины-любовники не могут иметь детей вместе, говорит Цветаева, — это «единственное слабое место, единственное уязвимое место, единственная брешь в совершенном единстве двух любящих друг друга женщин».
Тема однополых отношений была в центре внимания самого известного диалога Платона о любви, Symposium , в котором комик Аристофан рассказывает миф о первобытных людях, расколотых пополам разгневанными богами. Первоначальное сильное разделение заставляет каждого из нас искать вторую половину, чтобы снова сделать нас целыми. В то время как большинство первых людей были андрогинными (мужчина-женщина), некоторые состояли из двух женщин, а другие — из двух мужчин. По мнению Аристофана, это объясняет, почему некоторые из нас могут восстановить свою первоначальную целостность только в однополых союзах. Сократ, как обычно, делает более радикальное заявление. Он считает, что наши эротические занятия движимы фундаментальным человеческим желанием — всегда обладать добром. В то время как большинство гетеросексуальных союзов имеют тенденцию удовлетворять это желание биологически — производя уменьшенные копии нас, смертных существ с ограниченной продолжительностью жизни, — лучшие формы союза приводят к более прочному и красивому потомству, такому как акты героизма, произведения искусства и законы. Эти дети более ценны, говорит Сократ, потому что они более полно удовлетворяют стремление своих родителей к бессмертию, и они делают это независимо от пола или возраста своих родителей. Разве каждый из нас не предпочел бы отца или мать Илиада или Конституция США, а не обычное человеческое дитя? Нет ли чего-то пассивного в том, чтобы позволить нашим эротическим импульсам направить свои эротические импульсы на секс и рождение детей, что по умолчанию установлено нашей животной природой?
Эти дети более ценны, говорит Сократ, потому что они более полно удовлетворяют стремление своих родителей к бессмертию, и они делают это независимо от пола или возраста своих родителей. Разве каждый из нас не предпочел бы отца или мать Илиада или Конституция США, а не обычное человеческое дитя? Нет ли чего-то пассивного в том, чтобы позволить нашим эротическим импульсам направить свои эротические импульсы на секс и рождение детей, что по умолчанию установлено нашей животной природой?
Аргумент Цветаевой в ее эссе о том, что любовные отношения между двумя партнерами могут быть доведены до конца только ребенком, должен удивить бывалых читателей ее сочинений. В других своих произведениях Цветаева всегда настаивала на том, что, поскольку она поэт, она имеет право «стряхнуть» природные данные, в том числе и собственное женское тело. У природы нет абсолютной власти: ее претензии на нас следует подвергать сомнению, сопротивляться им. И все же в заключении Письмо к амазонке , Цветаева приводит в подтверждение своего аргумента природу: «Природа говорит: нет. Запрещая нам это, она защищает себя. Бог, запрещая нам что-либо, делает это из любви; природа, запрещая нам, делает это из любви к себе, из ненависти ко всему, что не ее».
Запрещая нам это, она защищает себя. Бог, запрещая нам что-либо, делает это из любви; природа, запрещая нам, делает это из любви к себе, из ненависти ко всему, что не ее».
Грубо говоря, природа эгоистична. Ему нет дела до нас, наших причин и побуждений, нашей любви и нашей целостности. Она предполагает, что человеческая природа предвосхищает « Эгоистичный ген» Ричарда Докинза.0004 (1976) на четыре десятилетия заботится только о воспроизведении большего количества экземпляров самого себя. Но если это так, то почему мы должны прислушиваться к природе? Ответ Цветаевой состоит в том, что молодые женщины делают это «неосознанно, по чистому и тройственному жизненному инстинкту — молодости, увековечения, чрева». Другими словами, наши инстинкты достаточно сильны, чтобы разрушить некоторые из наших самых заветных проектов и самых глубоких обязательств. Поэтому Цветаева позиционирует однополую любовь как оскорбление природы.
Странно Цветаевой писать. У нее были открытые интимные отношения с женщинами. Ее «Подруга», цикл из 17 стихотворений, посвященных ее возлюбленной, поэтессе Софье Парнок, содержит одни из самых захватывающих любовных стихов на русском языке. Но здесь, в ее Письмо , она отвергает любовь между женщинами, и ее аргументы убедительны. Что делает его убедительным, так это психологическая мини-драма Цветаевой, поставленная между двумя влюбленными — Младшим и Старшим. Она позволяет нам увидеть серию эпизодов, словно через щель в двери, в ходе которых Старшая Любовница распознает все более отчетливо выражающееся желание Младшей иметь ребенка, «маленького тебя, чтобы любить», и дистанцируется от нее. беспокойный возлюбленный, подталкивающий ее к отъезду. Из правдоподобного описания той или иной мини-драмы Цветаева делает обобщающий вывод: подобное напряжение характерно для всех случаев романтической и эротической любви между женщинами. Однако этот шаг может быть просто провокацией. Барни был богат и имел хорошие связи, потенциальный покровитель. Тонко завуалированный исповедальный тон Цветаевой вовсе не хочет оттолкнуть ее, он предполагает, что она намеревалась подразнить женщину, которую называла «амазонкой» и «моим братом».
Ее «Подруга», цикл из 17 стихотворений, посвященных ее возлюбленной, поэтессе Софье Парнок, содержит одни из самых захватывающих любовных стихов на русском языке. Но здесь, в ее Письмо , она отвергает любовь между женщинами, и ее аргументы убедительны. Что делает его убедительным, так это психологическая мини-драма Цветаевой, поставленная между двумя влюбленными — Младшим и Старшим. Она позволяет нам увидеть серию эпизодов, словно через щель в двери, в ходе которых Старшая Любовница распознает все более отчетливо выражающееся желание Младшей иметь ребенка, «маленького тебя, чтобы любить», и дистанцируется от нее. беспокойный возлюбленный, подталкивающий ее к отъезду. Из правдоподобного описания той или иной мини-драмы Цветаева делает обобщающий вывод: подобное напряжение характерно для всех случаев романтической и эротической любви между женщинами. Однако этот шаг может быть просто провокацией. Барни был богат и имел хорошие связи, потенциальный покровитель. Тонко завуалированный исповедальный тон Цветаевой вовсе не хочет оттолкнуть ее, он предполагает, что она намеревалась подразнить женщину, которую называла «амазонкой» и «моим братом». Она хотела, чтобы Барни ответил.
Она хотела, чтобы Барни ответил.
Представление о том, что довод Цветаевой — это соблазн, а мини-драма — форма приманки, подтверждается вступительными абзацами письма . Способность противостоять природе Цветаева описывает как форму достижения:
Отречение — мотивация? Да, потому что для управления силой требуется гораздо более ожесточенное усилие, чем для ее высвобождения, которое не требует вообще никаких усилий. В этом смысле всякая природная деятельность пассивна, а всякая волевая пассивность активна (излияние — выносливость, вытеснение — действие). Что труднее: удержать лошадь или дать ей побежать? А, учитывая, что мы сдерживаемая лошадь — что тяжелее: быть сдерживаемой или дать волю своей силе? […] Каждый раз, когда я сдаюсь, я чувствую дрожь внутри. Это я — земля дрожит. Отречение? Борьба окаменела.
Природу нельзя полностью дисциплинировать — она будет прорываться, а иногда и побеждать. Вместо того, чтобы соглашаться с его контролирующей силой, мы должны стремиться развивать самообладание. В конце концов, это наша собственная природа восстает против целей, которые мы ставим перед собой.
В конце концов, это наша собственная природа восстает против целей, которые мы ставим перед собой.
В своем проницательном и богатом предисловии ученый Екатерина Чепела пишет, что «восторженно изложенное Цветаевой дело теперь может вызвать сочувствие к гомосексуальным и лесбийским парам, которые борются во всем мире за законное право рожать детей и создавать семьи вместе». Определив стремление к биологическому воспроизводству как исходящее от «эгоистичной природы», власти которой над нами у нас есть причины сопротивляться, эссе Цветаевой также побуждает нас пересмотреть наши представления о браке и семье и продолжать думать о других способах совместного существования — и иметь и заботиться о детях.
¤
Оксана Максимчук — переводчик и автор двух сборников стихов на украинском языке. Она преподает философию в Арканзасском университете.
Макс Розочинский — переводчик и поэт из Симферополя, Крым. Работает над монографией о поэзии Марины Цветаевой.
Цветаева Марина | Encyclopedia.com
РОДИЛСЯ: 1892, Москва, Россия
УМЕР: 1941, Елабуга, Россия
Национальность: Российский
Жанр: Поэзия, Художественная литература
Основные работы:
Mileposts: Стихи: Выпуск I (1916)
Mileposts: POEM: выпуск II (1921)
MILEPOSTS: POEMS: Выпуск II (1921). Свет» (1922)
Ремесло (1923)
После России (1928)
Обзор
Наряду с Анной Ахматовой, Осипом Мандельштамом и Борисом Пастернаком Марина Цветаева входит в российский «поэтический квартет». важных авторов, чьи работы отражают изменение ценностей в России в первые десятилетия двадцатого века. Главным интересом Цветаевой как поэта был язык, и стилистические новации, проявленные в ее творчестве, считаются уникальным вкладом в русскую литературу.
Произведения в биографическом и историческом контексте
Детство привилегий и поэзии Марина Иванова Цветаева (также транслитерируется как Цветаева, Цветаева и Цветаева) родилась в Москве в семье профессора искусствоведения Ивана Цветаева и концертирующей пианистки Марии Мейн Цветаевой. . Цветаева выросла в Москве в семье высшего среднего класса, известной своими творческими и научными занятиями. Ее отец был основателем Музея изобразительных искусств, а талантливая и образованная мать поощряла Марину заниматься музыкальной карьерой. Посещая школы в Швейцарии, Германии и в Сорбонне в Париже, Цветаева предпочитала писать стихи.
. Цветаева выросла в Москве в семье высшего среднего класса, известной своими творческими и научными занятиями. Ее отец был основателем Музея изобразительных искусств, а талантливая и образованная мать поощряла Марину заниматься музыкальной карьерой. Посещая школы в Швейцарии, Германии и в Сорбонне в Париже, Цветаева предпочитала писать стихи.
Две книги, брак и несколько романов В 1910 году, когда Цветаевой было восемнадцать лет, в частном порядке был издан ее первый сборник, Вечерний альбом . Этот том получил неожиданное внимание, когда его рецензировали видный критик Макс Волошин и поэты Николай Гумилев и Валерий Брюсов, все из которых положительно отзывались о
творчестве Цветаевой. В 1911 году Цветаева издала второй сборник стихов « Волшебный фонарь 9».0056, а в следующем году вышла замуж за Сергея Эфрона. На протяжении всего брака Цветаева преследовала романтические отношения с другими поэтами, следуя модели увлечения и разочарования, которую она установила в подростковом возрасте.
Гражданская война в России Во время гражданской войны в России, длившейся с 1918 по 1921 год, Цветаева жила в бедности в Москве, а ее муж воевал в Крыму офицером царской Белой Армии. Гражданская война в России была осложнена присутствием нескольких противоборствующих военных группировок, но главными противниками были большевистская, или Красная, Армия, имевшая широкий мандат после 19-го века.17 Рабочая революция — и царская Белая армия, отчаянно пытавшаяся восстановить старый политический порядок. В это время Цветаева много писала, сочиняя стихи, эссе, мемуары и драмы. Но антибольшевистские настроения, охватившие многие из этих работ, помешали их публикации. Во время голода 1919 года младший из двух ее детей умер от голода, а в 1922 году (через год после победы большевиков в гражданской войне и год смерти их лидера Владимира Ленина) Цветаева эмигрировала со своим выжившим ребенком Ариадной. в Германию. Там — после пяти лет разлуки во время войны — она воссоединилась с Эфроном.
Непреклонная просоветская позиция Пока семья Цветаевой жила в Берлине, а затем в Праге, где в 1925 году родился ее сын Георгий, она начала публиковать произведения, написанные в предыдущее десятилетие. Они понравились русским критикам и читателям, живущим в эмиграции. Переехав в Париж, Цветаева продолжала писать стихи, но изменившаяся политика привела ее в немилость. Репутация Цветаевой среди других писателей-эмигрантов начала ухудшаться — в основном из-за ее отказа занимать воинствующую антисоветскую позицию многих эмигрантов и просоветской деятельности ее мужа (Эфрон к этому моменту настолько окончательно перешел на другую сторону, что стал агентом коммунистов). ).
Сталинский террор, Вторая мировая война и самоубийство Эфрон и дочь Ариадна вернулись в Россию в 1937 году. В то время художники и интеллектуалы, особенно имеющие связи с Западом, подвергались риску экстремистской политики Иосифа Сталина, которая включала параноидальные и, что еще хуже, глубоко произвольные пытки и казни подозреваемых врагов государства. Семья ненадолго воссоединилась в Москве, прежде чем Эфрон и Ариадна были арестованы, а Эфрону было предъявлено обвинение в антисоветском шпионаже.
Семья ненадолго воссоединилась в Москве, прежде чем Эфрон и Ариадна были арестованы, а Эфрону было предъявлено обвинение в антисоветском шпионаже.
Когда в 1941 году немецкие войска напали на Москву, нарушив Пакт о ненападении, тайно подписанный Сталиным с немецким нацистским лидером Адольфом Гитлером в начале Второй мировой войны (1939–1945), Цветаева и Георгий были эвакуированы в деревню Елабуга в Татарская Республика. Подавленная арестом и возможной казнью мужа и дочери, лишенная права публиковаться и не в силах содержать себя и сына, Цветаева покончила с собой.
Произведения в литературном контексте
Русское влияние На произведения Цветаевой значительное влияние оказали произведения ее современников и события, связанные с русской революцией. Тем не менее она оставалась в значительной степени независимой от многочисленных литературных и политических движений, процветавших в эту бурную эпоху, возможно, из-за силы впечатлений, оставленных на нее ее эклектичными интересами к чтению. Вечерний альбом (1910), например, несет на себе сильное влияние юношеских цветаевских чтений, в которых было много второсортной поэзии и прозы. В Вехи: Стихи: Выпуск I (1916 г.), она вдохновлена архитектурным и религиозным наследием Москвы, возможно, благодаря творчеству Каролины Карловны Павловой, одного из ее любимых поэтов.
Вечерний альбом (1910), например, несет на себе сильное влияние юношеских цветаевских чтений, в которых было много второсортной поэзии и прозы. В Вехи: Стихи: Выпуск I (1916 г.), она вдохновлена архитектурным и религиозным наследием Москвы, возможно, благодаря творчеству Каролины Карловны Павловой, одного из ее любимых поэтов.
Многочисленные романы Цветаевой, часто не связанные с сексом, также оказывали явное влияние; она считала их по существу духовными по своей природе, и им приписывают высокую эмоциональность ее поэзии, а также вдохновляющие стихи, посвященные Осипу Мандельштаму, Александру Блоку и Райнеру Марии Рильке. Лирические диалоги Цветаевой с Блоком, Мандельштамом и Ахматовой в Вехи сосредоточены на темах России, поэзии и любви. Основывая свои стихи преимущественно на личном опыте, Цветаева также с повышенной отстраненностью исследовала такие философские темы, как природа времени и пространства.
Русский народный стиль Цветаева рано развила поэтические черты, во многом сохранившиеся в ее последующих сборниках. Оба тома Вех отмечены необычайной силой и прямотой языка. Идеи тревоги, беспокойства и стихийной силы подчеркнуты языком, так как Цветаева опирается на общерегиональную речь и обращается к народным песням и русской поэзии восемнадцатого века. Ее интерес к языку проявляется в игре слов и лингвистических экспериментах ее стихов. Ученые также отметили интенсивность и энергию глаголов в ее стихах и ее любовь к темным цветам. На уровне образов преобладает архетипический и традиционный символизм, например, в использовании ею ночи, ветра, просторов и птиц.
Оба тома Вех отмечены необычайной силой и прямотой языка. Идеи тревоги, беспокойства и стихийной силы подчеркнуты языком, так как Цветаева опирается на общерегиональную речь и обращается к народным песням и русской поэзии восемнадцатого века. Ее интерес к языку проявляется в игре слов и лингвистических экспериментах ее стихов. Ученые также отметили интенсивность и энергию глаголов в ее стихах и ее любовь к темным цветам. На уровне образов преобладает архетипический и традиционный символизм, например, в использовании ею ночи, ветра, просторов и птиц.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ СОВРЕМЕННИКИ
Известные современники Цветаевой:
Шарль де Голль (1890–1970): французский генерал и лидер Свободных французских сил, он основал Пятую французскую республику и стал ее первым президентом. .
Владимир Маяковский (1893–1930): русский поэт и драматург, считается одним из предшественников русского футуризма.
Пабло Неруда (1904–1973): чилийский поэт, писатель и политический коммунист; его 1971 получение Нобелевской премии по литературе вызвало много споров.
Франклин Делано Рузвельт (1882–1945): американский политик и тридцать второй президент Соединенных Штатов, он был настолько популярен среди людей, что был избран на этот пост на четыре срока.
Эдит Штайн (1891–1942): монахиня-кармелитка и немецкий философ. Она стала мученицей католической церкви после гибели в Освенциме.
В начале 1920-х Цветаева экспериментировала с повествовательным стихом. Она адаптировала традиционные русские народные сказки в Король-дева (1922) и Суэйн (1924). В томе «После России » (1928 г.) она объединила свой ранний романтический стиль с более региональным стилем. В 1930-е годы Цветаева отдавала больше сил прозе, чем поэзии. В таких мемуарах, как «Плененный дух» и «Мой Пушкин» (оба опубликованы в «Современных летописях» в 1934 и 1937 годах соответственно), она зафиксировала свои впечатления от друзей и поэтов. В прозаическом стиле, характеризующемся повествовательной техникой потока сознания и поэтическим языком, Цветаева выразила свои взгляды на литературное творчество и критику в таких эссе, как «Искусство в свете совести» и «Поэт о критике» (оба опубликованы в Contemporary Annals в 1932 г. ).
).
Работы в критическом контексте
После ее смерти Марина Цветаева и ее творчество были практически забыты. В течение многих лет ее имя не упоминалось в Советском Союзе. Затем стали появляться ее посмертные публикации, и вскоре она получила признание как одна из величайших русских поэтов всех времен. В России и за ее пределами сложился настоящий культ Цветаевой. Сегодня она всемирно известная поэтесса и объект многих научных исследований, которые стоят наравне с критикой Пастернака, Мандельштама, Ахматовой или даже классиков русского Золотого века. Эта репутация частично связана с ранней поэзией Цветаевой. «Ремесло » (1923 г.), последний сборник стихов Цветаевой, завершенный перед эмиграцией, хвалят за метрические эксперименты и удачное смешение народного языка, архаизмов и библейских идиом. After Russia (1928) была признана такими критиками, как Саймон Карлински, «самой зрелой и совершенной из ее коллекций».
Дальнейшее свидетельство ее литературных достоинств — и зрелые стихи Цветаевой, и даже ее первое стихотворное произведение Вечерний альбом .
Вечерний альбом (1910) Написанный почти полностью до того, как ей исполнилось восемнадцать лет, Вечерний альбом считается произведением технической виртуозности. Подчас незрелые темы тома не заслоняют мастерства Цветаевой в традиционных русских лирических формах. Во время публикации ее сразу же заметили ведущие критики, которые дали книге положительные отзывы и подчеркнули ее интимность и свежесть тона. Валерий Яковлевич Брюсов, который в свои 1911 статья «Новые стихотворные сборники» в Русская мысль , высказала некоторые оговорки по поводу бытовых тем и обыденных идей Цветаевой, тем не менее назвала ее «несомненно талантливым» автором, способным создать «истинную поэзию интимной жизни». Еще раз отражая критическое отношение того времени, Николай Сергеевич Гумилев с энтузиазмом писал о непосредственности и дерзости Цветаевой, заключая в своей статье 1911 года «Письма о русской поэзии» в Аполлон , «Здесь инстинктивно угаданы все основные законы поэзии, так что эта книга не только книга очаровательных девичьих признаний, но и книга превосходных стихов».
После ее первоначального критического успеха и популярности Цветаевой в значительной степени пренебрегали из-за ее экспериментального стиля и ее отказа занимать ни про-, ни антисоветскую позицию. Недавние критики считают ее творчество одним из самых новаторских и сильных произведений русской поэзии двадцатого века, а такие ученые, как Анжела Ливингстон, писали: «Эмоциональный, но не« женственный »поэт, она избегает всякой сладкозвучной сентиментальности и вместо этого любит, ненавидит, восхваляет. , бичует, сокрушается, восхищается, устремляется… с какой-то непоколебимой телесностью, всегда доводя страсти и позиции до точки, в которой они будут полностью раскрыты».
ОБЩИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОПЫТ
Вот несколько произведений писателей, которые, как и Цветаева, также отдавали дань уважения своей родине, народам и собратьям-писателям в сказках, стихах, лирике и прозе:
Сказки Греции ( 1970), сборник под редакцией Георгиоса А. Мегаса. В этот сборник вошли такие рассказы, как «Миндальное семя и минделла» и «Брат и сестра».
Popular Tales of the West Highlands (1890), сборник Джона Фрэнсиса Кэмпбелла. Эти сказки родом из Шотландии и включают такие названия, как «Сказка о королеве, которая хотела напиться из определенного колодца».
Владимир Ильич Ленин (1925), трибьют-стихотворение Владимира Маяковского. Это стихотворение из трех тысяч строк было высококлассной данью памяти Ленину после его смерти.
Responses to Literature
- На Цветаеву и ее творчество повлияли события гражданской войны в России, когда поэтесса бедствовала в Москве, а ее муж воевал в Крыму офицером царской Белой Армии. Исследуйте гражданскую войну в России. Как это особенно повлияло на мирных жителей? Как отразилось это влияние в творчестве Цветаевой?
- Цветаева проявляла антибольшевистские настроения в своих стихах, пьесах, журналах и рассказах. Этот факт препятствовал публикации ее сочинений на несколько лет. Выберите стихотворение Цветаевой, которое, по вашему мнению, могло иметь такой противоречивый политический посыл (вам может потребоваться изучить большевиков, чтобы понять этот контекст).
 Объясните, почему это стихотворение могло представлять такую угрозу, используя подробный анализ отрывков из стихотворения, чтобы углубить свою позицию.
Объясните, почему это стихотворение могло представлять такую угрозу, используя подробный анализ отрывков из стихотворения, чтобы углубить свою позицию. - В своем творчестве Цветаева имеет тягу к народным песням, частушкам и русской поэзии восемнадцатого века. Исследуйте русские народные традиции, мифологию или историю, чтобы глубже понять людей, о которых писала Цветаева. Как бы вы охарактеризовали типичных русских того времени? Хорошо ли они изображены в ее работах? Какие ценности у них проявляются в творчестве поэта? Что вы узнали о русской традиции из сочинений Цветаевой?
- Творчество Цветаевой ценится за лиризм и «интуитивное» понимание того, что движет человеческой душой. Проанализируйте эмоциональное воздействие одного из ее стихотворений, которое вы находите особенно поразительным; объяснять различные элементы поэзии, которые она использует для создания определенных образов и пробуждения определенных чувств у читателя. Помогите вашему читателю понять, в конечном счете, как работает стихотворение.

БИБЛИОГРАФИЯ
Книги
Брюсов Валерий Яковлевич. Среди стихов 1894–1924: Манифест, статьи, рецензии . Составители Николай Алексеевич Богомолов и Николай Всеволодович Котрелев. М.: Советский писатель, 1990.
Гумилев Николай Сергеевич. «Письма о русской поэзии». В Собрание сочинений , стр. 262, 293–294. Вашингтон, округ Колумбия: Виктор Камкин, 1968.
Карлинский, Саймон. Марина Цветаева: ее жизнь и искусство . Беркли: University of California Press, 1966.
———. Марина Цветаева: Женщина, ее мир и ее поэзия . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1985.
Карлински, Саймон и Альфред Аппель-младший, ред. Горький воздух ссылки: русские писатели на Западе, 1922–1972 . Беркли: University of California Press, 1977.
Пастернак, Евгений, Елена Пастернак и Константин М. Азадовский, ред. Письма, лето 1926 года: Борис Пастернак, Марина Цветаева, Райнер Мария Рильке . Перевод Маргарет Веттлин и Уолтера Арндта. Нью-Йорк: Харкорт, 1985; перепечатано, Oxford University Press, 1988.
Перевод Маргарет Веттлин и Уолтера Арндта. Нью-Йорк: Харкорт, 1985; перепечатано, Oxford University Press, 1988.
Цветаева Марина, Неопубликованные письма . Под редакцией Глеба Струве и Никиты Струве. Париж: YMCA-Press, 1972.
Периодические издания
Бургин, Дайана Льюис. «После бала: творческие отношения Софьи Парнок с Мариной Цветаевой». Русское обозрение 47 (1988): 425–44.
Чепела, «Серьезное отношение к монологизму: «Крысолов» Бахтина и Цветаевой». Славянское обозрение 4 (1994): 1010–24.
Форрестер, Сибелан. «Колокола и купола: формообразующая роль женского тела в поэзии Марины Цветаевой». Славянское обозрение 2 (1992): 232–46.
Гоув, Антонина Ф. «Женский стереотип и не только: ролевой конфликт и разрешение в поэтике Марины Цветаевой». Славянское обозрение 2 (1977): 231–55.
Холл, Брюс. ««Самая дикая из дисгармоний»: лакановское прочтение цикла Цветаевой «Провода» в контексте других его значений». Славянский и восточноевропейский журнал 1 (1996): 27–44.
Славянский и восточноевропейский журнал 1 (1996): 27–44.
Хельдт, Барбара. «Два стихотворения Марины Цветаевой из После России ». Modern Language Review 3 (1982): 679–87.
Веб-сайты
Кнеллер Андрей. Переводы Марины Цветаевой: Избранные стихи и ссылки . Получено 31 марта 2008 г. с http://home.comcast.net/~kneller/tsvetaeva.html.
Маневич, Вадим и Олеся Петрова. Наследие Марины Цветаевой . Получено 31 марта 2008 г. с http://english.tsvetayeva.com/.
Мир Марины Цветаевой (на русском языке). Получено 31 марта 2008 г. с http://www.ipmce.su/~tsvet/.
Жизнь, наполненная романтикой и революцией, роковая русская поэтесса любила и жила трагически | Нина Рената Арон
Марина Цветаева с мужем Сергеем Эфроном и детьми в Праге, 1925 год. (Fine Art Images/Heritage Images via Getty Images) «Два с половиной дня — ни глотка, ни укуса», — писал русская поэтесса Марина Цветаева в октябре 1917 года, когда поезд вез ее из Крыма обратно в родную Москву, чтобы посмотреть, что от нее осталось. За несколько дней до этого большевики подняли восстание против ненадежного Временного правительства в России, положив начало революции. «Солдаты приносят газеты — отпечатанные на розовой бумаге. Кремль и все памятники взорваны», — продолжила она. «Здание, где кадеты и офицеры отказались сдаться, взорвано. 16000 убитых. На следующей станции до 25000. я молчу. Я курю.»
За несколько дней до этого большевики подняли восстание против ненадежного Временного правительства в России, положив начало революции. «Солдаты приносят газеты — отпечатанные на розовой бумаге. Кремль и все памятники взорваны», — продолжила она. «Здание, где кадеты и офицеры отказались сдаться, взорвано. 16000 убитых. На следующей станции до 25000. я молчу. Я курю.»
Цветаева не могла тогда знать, что переживает один из самых значительных потрясений в истории своей страны и ХХ века. Как и большинство ее соотечественников, она мало знала. Русская революция ворвалась в жизнь Цветаевой, как это произошло со многими, особенно с аристократическим прошлым, сразу же сделав неопределенными состояние ее дома, средств к существованию и будущего. Поразительная широта террора и дестабилизации, вызванных революцией, особенно очевидна в жизни Цветаевой, и она станет одним из самых ярких и страстных голосов в русской литературе.
В то время она гостила у своей сестры Анастасии и боялась, что, вернувшись в Москву, она найдет своего мужа и двух дочерей, которым тогда было четыре года и шесть месяцев, раненых или мертвых. Они были в порядке, хотя это событие безвозвратно изменило всю их жизнь. Вскоре после революции муж Цветаевой, уже военный, присоединился к антибольшевистской Белой армии, которой предстояло вести кровавую гражданскую войну против красных. Цветаева не видела его снова четыре года и не получала от него вестей первые три года.
Они были в порядке, хотя это событие безвозвратно изменило всю их жизнь. Вскоре после революции муж Цветаевой, уже военный, присоединился к антибольшевистской Белой армии, которой предстояло вести кровавую гражданскую войну против красных. Цветаева не видела его снова четыре года и не получала от него вестей первые три года.
Внезапно Цветаева оказалась обездоленной и одинокой в пугающей новой реальности с двумя маленькими детьми, ее семейный дом «разобрали на дрова». Как художница и представительница аристократии, она никогда не работала по совместительству, но теперь устроилась на работу в Народный комиссариат по делам национальностей (Наркомнац), где ворчливо столкнулась с ошеломляюще разнообразным составом новых советских граждан. Работа длилась недолго. В этот период Цветаева часто писала, вела тетради и дневники, в которых записывала головокружительные преобразования политической и повседневной жизни, происходящие вокруг нее. Это сочинение собрано в томе Earthly Signs: Moscow Diaries 1917–1922 , скоро будет переиздано New York Review Books. Взятые вместе, работы являются мощным напоминанием о том, что искусство может спасти вас, или убить, или и то, и другое.
Взятые вместе, работы являются мощным напоминанием о том, что искусство может спасти вас, или убить, или и то, и другое.
Как пишет переводчик Джейми Гэмбрелл в предисловии к сборнику, дневник предлагал Цветаевой как свободу работать вне каких-либо литературных условностей или профессионального давления, так и структуру, которая была ей необходима, чтобы опоясать полнейший хаос послереволюционной жизни. Она включает в свои дневники воспоминания о своей юности, обрывки разговоров с детьми и друзьями, размышления о поэзии, наблюдения и критику быстрых изменений в российской столице и языке, а также вызывающие воспоминания отрывочные взгляды на повседневную жизнь, которую утверждает Гэмбрелл. являются не просто биографическим материалом, но «являются выдающимся историческим документом сами по себе». В одном отрывке, описывающем явный рейд, говорится: «Крики, вопли, звон золота, старушки с непокрытыми головами, изрезанные перины, штыки… Они все обыскивают». Через несколько страниц: «Рынок. Юбочки — поросята — тыквы — петушки. Примиряющая и чарующая красота женских лиц. Все темноглазые, и все носят ожерелья».
Через несколько страниц: «Рынок. Юбочки — поросята — тыквы — петушки. Примиряющая и чарующая красота женских лиц. Все темноглазые, и все носят ожерелья».
Она пронзительно пишет о собственном одиночестве и отчуждении. «Я кругом изгой: хамской жене «бедняк» (дешевые чулки, без бриллиантов), хаму «буржуа», теще — «бывший человек», красноармейцам — гордая, коротко стриженная барышня». О покупках она пишет: «Продовольственные магазины теперь напоминают витрины салонов красоты: все сыры — холодцы — пирожные — ни на йоту не живее восковых кукол. Тот самый легкий ужас». И о собственной бедности, еще мрачно-ошеломляющей новизне: «Я живу и сплю в одном и том же страшно севшемся коричневом фланелевом платье, сшитом в Александрове весной 1917, когда меня не было. Все покрыто прожженными дырами от падающих углей и сигарет. Рукава, присборенные на резинку, закатаны и скреплены английской булавкой».
Она брала крошечные подачки от друзей, работала по частям там, где могла, и ей платили гроши то тут, то там за то, что она читала свои произведения вслух. В конце концов, она отдала свою младшую дочь Ирину в государственный приют, думая, что там ее будут лучше кормить. Ребенок вскоре умер от голода, еще больше погрузив Цветаеву в суматоху и горе.
В конце концов, она отдала свою младшую дочь Ирину в государственный приют, думая, что там ее будут лучше кормить. Ребенок вскоре умер от голода, еще больше погрузив Цветаеву в суматоху и горе.
Цветаева родилась в 1892 году в семье профессора Московского университета искусств и концертирующей пианистки. До того, как ей исполнилось 20 лет, она поглотила большую часть мира. Она была заядлым и всеядным читателем, особенно интересовалась литературой и историей, в подростковом возрасте училась во Франции и Швейцарии. В детстве ее семья жила за границей в поисках более красивых мест и санаториев для лечения туберкулеза матери Марины, который убил ее в 1906 году.
Союз родителей Цветаевой был вторым браком для ее отца, который впоследствии основал известный как Пушкинский музей, и для ее матери, у которой до этого были серьезные отношения. По большому счету, этих двоих преследовала их прошлая любовь, от которой они так и не оправились. У Цветаевой и ее сестры было двое сводных братьев и сестер, которые были продуктом первого брака ее отца, с которыми ее мать никогда не ладила.
Возможно, это одна из причин того, что Цветаева на протяжении всей своей жизни оставалась почти фанатичной поклонницей любви во всех ее проявлениях. Как пишут Оксана Мамсимчук и Макс Розочинский в Los Angeles Review of Books , несмотря на жизнь, полную трагедий, Цветаева «сохранила детскую способность к любви» и написала в своем стихотворении Письмо к Амазонке, «любовь само по себе детство».
Она страстно погрузилась в то, что ее муж Сергей Эфрон назвал в письме к другу «своими ураганами», ведя незаконченные эпистолярные романы и полномасштабные эротические интрижки. «Главное не что но как, » продолжил Эфрон. «Не сущность или источник, а ритм, безумный ритм. Сегодня — отчаяние; завтра — экстаз, любовь, полная самоотверженность; а на следующий день — снова отчаяние».
Она познакомилась с Сергеем Эфроном в Коктебеле, своего рода приморской колонии художников в Крыму, в 1911 году. Эфрон, тоже поэт, обладал трагическим характером, к которому, кажется, тянулась Цветаева. Он был шестым из девяти детей. Его отец, работавший страховым агентом, умер, когда он был подростком. Через год один из его братьев покончил с собой. Его мать, узнав о смерти сына, на следующий день покончила с собой.
Он был шестым из девяти детей. Его отец, работавший страховым агентом, умер, когда он был подростком. Через год один из его братьев покончил с собой. Его мать, узнав о смерти сына, на следующий день покончила с собой.
Цветаева и Эфрон быстро влюбились и поженились в следующем году (оба были еще подростками), хотя Цветаева продолжала крутить романы, в первую очередь с поэтом Осипом Мандельштамом, о котором она написала «Вехи», цикл стихи часто считались ее лучшими. Любовь, которую любила Цветаева, — то детская, то бурная и мучительная, — может быть, лучше всего проявилась в другом ее значительном романе — с поэтессой Софьей Парнок. Цветаева написала цикл стихов «Подружка» о Парноке (подарив его ей в подарок), тон ее то игривый, то язвительный, то жестокий. Парнок, со своей стороны, писал стихи, предсказывающие кончину пары. Как выразилась исследователь русской литературы Дайана Льюис Бергин, их «похоже, это была одна из тех страстей, которые подпитывались влечением к собственной гибели».
В 1922 году Цветаева уехала из СССР с выжившей дочерью и воссоединилась с Эфроном в Берлине. Затем семья переехала в Прагу. В 1925 году она родила сына Георгия. Летом 1926 года Цветаева переписывалась — настойчиво, лихорадочно — с двумя титанами европейской литературы, Борисом Пастернаком и Райнером Марией Рильке. В этих кратких ярких отношениях (Рильке умер в 1926 г., Цветаева и Пастернак продолжали писать друг другу) та же неудержимая и мучительная искра, та же одержимость одержимостью, которая характеризует большую часть биографии и поэзии Цветаевой.
В 1930-е годы она провела в основном в Париже, демонстрируя то, что русская писательница Нина Берберова называет «особой мерзостью среди парижских художников и поэтов в период между двумя войнами». Она заболела туберкулезом и жила на небольшую стипендию художника от чешского правительства и все, что ей удавалось заработать на продаже своих работ. Она писала Пастернаку о своем отчуждении: «Они не любят поэзии и что я такое кроме этого, не поэзия, а то, из чего она сделана. [Я] негостеприимная хозяйка. Молодая женщина в старом платье».
[Я] негостеприимная хозяйка. Молодая женщина в старом платье».
За исключением книг по истории, революции не подводятся четкие итоги. Скорее, они колеблются наружу бесчисленными способами. Несмотря на проживание за границей, семье Цветаевой пришлось столкнуться с полной батареей советских ужасов. Эфрон и оставшаяся в живых дочь пары Ариадна тосковали по СССР и в конце концов вернулись в 1937 году. Эфрон к тому времени работал на НКВД (советские силы безопасности до КГБ), как и жених Ариадны, который шпионил за семьей. Оба были арестованы по обвинению в шпионаже в разгар сталинского террора. Эфрон был казнен в 19 г.41. Ариадну приговорили к восьми годам лагерей. Еще около десяти лет она провела в тюрьмах и ссылке в Сибири. Сестра Цветаевой Анастасия тоже попала в тюрьму; она выжила, но больше они никогда не виделись.
«Правда — это перебежчик», — написала Цветаева несколько лет назад в письме к другу.
В 1939 году Цветаева также вернулась в свой родной город Москву, но была переселена в Елабугу, небольшой городок в Татарстане, чтобы избежать наступления немецкой армии. Писательница Нина Берберова вспоминает, как видела Цветаеву незадолго до отъезда в Москву в 19-м году.39, на парижских похоронах другого поэта. О встрече она пишет: «У нее были седые волосы, серые глаза, серое лицо. Ее большие руки, грубые и грубые, руки уборщицы, были сложены на животе, и у нее была странная беззубая улыбка. И я, как и все, прошел мимо, не поздоровавшись с ней».
Писательница Нина Берберова вспоминает, как видела Цветаеву незадолго до отъезда в Москву в 19-м году.39, на парижских похоронах другого поэта. О встрече она пишет: «У нее были седые волосы, серые глаза, серое лицо. Ее большие руки, грубые и грубые, руки уборщицы, были сложены на животе, и у нее была странная беззубая улыбка. И я, как и все, прошел мимо, не поздоровавшись с ней».
Через два года, еще в Елабуге, Цветаева покончила с собой. Она оставила письмо своему 16-летнему сыну (который был призван в армию и через несколько лет погиб в бою), в котором говорилось: «Прости меня, но было бы только хуже. Я серьезно болен, это уже не я. Я безумно люблю тебя. Поймите, что я больше не могу жить. Скажи папе и Алье, если увидишь их, что я любила их до последней минуты, и объясни, что я зашла в тупик. Ее похоронили в безымянной могиле.
Письмо Амазонке — Марина Цветаева | Полная остановка
[Пресса Гадкого Утенка; 2016]
Тр. А’Дора Филлипс и Гаэль Коган
Марина Цветаева, известная русская и советская поэтесса, пережила русскую революцию 1905 года, была свидетельницей того, как ее муж сражался на стороне Белой армии и потерпела поражение после революции 1917 года, потеряла одну из своих дочерей из-за голодала в 1920 году и искала ссылку в Париже вместе с тем, что осталось от ее семьи в 1922. Там Цветаева познакомилась с Натали Клиффорд Барни через парижский салон Барни.
Там Цветаева познакомилась с Натали Клиффорд Барни через парижский салон Барни.
В этом году Ugly Duckling Presse выпускает первый английский перевод эссе Цветаевой « Письмо к амазонке », первоначально написанного через десять лет после бегства в Париж. Эссе — ответ Цветаевой на книгу Барни « Pensees d’une Amazone» («Мысли амазонки») . В нем Цветаева исследует влияние сексуальности женщины на ее жизненный путь. Она реагирует на прославление Барни лесбиянства в основном через призму своего собственного опыта гомосексуальных отношений и своего сожаления о возвращении к гетеросексуальным отношениям.
Как пишет Кэтрин Чепела во введении к Letter to the Amazon , работа Натали Клиффорд Барни «прямая, уверенная и даже радостная в том, что она противопоставляет лесбиянство социальным нормам и авторитетам». Барни был богатым американским эмигрантом, предпочитавшим интеллектуальную арену Парижа интеллектуальной арене Штатов. Она также искала и нашла более широкое признание своей сексуальности, которую она всем сердцем приняла (во вступлении Чепела называет ее одной из «наименее страдающих» лесбиянок того времени). Барни почувствовал и поддержал за десятилетия до появления тенденции необходимость поощрять и хвалить женский литературный труд. В 2016 году Елена Ферранте подчеркивает необходимость женского канона, установленного по его собственным достоинствам и отделенного от правил и традиций, регулирующих в основном западный, белый и мужской литературный канон. Барни применял такую практику почти столетие назад. Хотя ее парижский салон, несомненно, был привилегированным местом, он также был средством оказания прямого покровительства авторам-женщинам, включая Джуну Барнс. Беззастенчивая и восторженная поддержка Барни женской работы в сочетании с ее тенденцией персонализировать писателей-мужчин так же, как женщины были (и продолжают быть) персонализированными, твердо поставили ее в авангард работы по установлению женского литературного канона.
Барни почувствовал и поддержал за десятилетия до появления тенденции необходимость поощрять и хвалить женский литературный труд. В 2016 году Елена Ферранте подчеркивает необходимость женского канона, установленного по его собственным достоинствам и отделенного от правил и традиций, регулирующих в основном западный, белый и мужской литературный канон. Барни применял такую практику почти столетие назад. Хотя ее парижский салон, несомненно, был привилегированным местом, он также был средством оказания прямого покровительства авторам-женщинам, включая Джуну Барнс. Беззастенчивая и восторженная поддержка Барни женской работы в сочетании с ее тенденцией персонализировать писателей-мужчин так же, как женщины были (и продолжают быть) персонализированными, твердо поставили ее в авангард работы по установлению женского литературного канона.
Ответ Цветаевой не касается книги Барни в целом. Это эссе — попытка Цветаевой указать на то, что она считает огромным слепым пятном в ярком изображении лесбиянства Барни в « Мысли об амазонке ». Основной аргумент Цветаевой заключается в том, что две влюбленные женщины неизбежно расстанутся, когда одна хочет ребенка от другой, но пара не может зачать ребенка естественным путем. Это неизбежная «гибель», с которой сталкиваются любые лесбийские отношения.
Основной аргумент Цветаевой заключается в том, что две влюбленные женщины неизбежно расстанутся, когда одна хочет ребенка от другой, но пара не может зачать ребенка естественным путем. Это неизбежная «гибель», с которой сталкиваются любые лесбийские отношения.
Цветаеву, как известно, трудно перевести. Ее поэзия на русском языке обыгрывает народную песню с изобретательностью, которую трудно передать другим языкам. Цветаева также писала и переводила на французский и немецкий языки. А’Дора Филлипс и Гаэль Коган проделали замечательную работу по переводу произведений Цветаевой с французского на английский язык. Здесь сохраняется звуковое воздействие Цветаевой на фрагменты и тире. Эссе изобилует обмороковыми фразами Цветаевой («Сладость ставить ногу на сердце»). К сожалению, аргументация Цветаевой глубоко ошибочна.
Невероятно узкое определение Цветаевой того, что представляет собой «нормальная» лесбиянка, ее ограниченные представления о необходимости биологического материнства и важности материнства для «нормальной» женщины — все это делает эссе устаревшим. Примеры, приводимые Цветаевой в качестве аргумента, почти исключительно анекдотичны и основаны на ее романе с Парнок.
Примеры, приводимые Цветаевой в качестве аргумента, почти исключительно анекдотичны и основаны на ее романе с Парнок.
Во введении к эссе Чепела утверждает, что пары геев и лесбиянок, борющиеся за право иметь собственных детей, могут согласиться с некоторыми аргументами Цветаевой. Сомнительно. Это эссе представляет собой защиту одаренной буржуазной поэтессы, объясняющей, почему она не может продолжать роман со своей любовницей-лесбиянкой. Это сочинение о выбор , что является признаком привилегии. Цветаева взвешивает влияние гетеросексуального и гомосексуального союза на женскую жизнь, а именно на ее собственную.
Специфика этого рокового препятствия на пути лесбийской любви подробно перечислена с деталями, почти полностью почерпнутыми из двухлетнего романа Цветаевой с Софьей Парнок, которую часто довольно банально называют «российской Сапфо». Этот страстный и взаимно порождающий роман произошел за двадцать лет до того, как Цветаева написала очерк. Учитывая крайне анекдотический характер рассуждений Цветаевой, справедливо спросить, как ее отношения с Парнок повлияли на Письмо на Амазонку .
Цветаева не возражает против лесбийской любви — как раз наоборот: она ее превозносит. Она описывает лесбийский роман на его ранних стадиях языком, напоминающим о прошлом и повторяющейся русской концепции лесбиянства-как-нарциссизма:
И так получается, что юная улыбающаяся девушка, которая не хочет чужого в своем теле, которая хочет ничего общего с ним и что его, кто хочет только то, что мой , встречает на повороте дороги другой я, а она, кого ей не нужно бояться, от кого ей не нужно защищаться, ибо другой не может причинить ей вред, поскольку нельзя (по крайней мере, в молодости) причинить себе вред.
На любовь между женщинами она смотрит положительно. Ее аргумент заключается в том, что жестокость природы, не позволяющая женщине напрямую зачать другую женщину, обрекает на гибель любой союз между «нормальными» лесбиянками. Цветаева определяет нормальную лесбиянку через исключение. Она исключает из своего определения следующие исключения: женщина, не являющаяся матерью; молодой, развратный, поверхностный любитель удовольствий; заблудшая душа, ищущая в любви душу; тот, кто любит беззаветно; и женщина не может зачать. Любая оставшаяся после этого отсеивания и без того узкая часть населения представляет собой нормальную гомосексуальную женщину.
Любая оставшаяся после этого отсеивания и без того узкая часть населения представляет собой нормальную гомосексуальную женщину.
А для этой нормальной лесбиянки Цветаева пишет: «Невозможно устоять не перед искушением мужчины, а перед потребностью в ребенке. . . Потому что даже если бы у нас когда-нибудь мог быть ребенок без него , у нас никогда не было бы ее ребенка, маленького тебя, чтобы любить.
То, что происходит, можно интерпретировать как решение Цветаевой ретроспективно объяснить и защитить свой выбор вернуться к мужу, Сергею Эфрону. На момент романа у нее был от него один ребенок (ее дочь Адриадна, которая в то время была достаточно взрослой, чтобы помнить, что проводила время со своей матерью и Парнок). После возвращения к Эфрону у Цветаевой родилось еще двое детей.
Жизнь, которую она построила как жена и мать, в эссе подробно не описана, но ее работа на протяжении всей жизни неоднократно подчеркивает важность жены и материнства для Цветаевой. Вместо описания своей полноценной материнской жизни Цветаева вместо этого предпочитает изобразить в эссе мрачный портрет другой жизни: престарелой лесбиянки, одинокой и обреченной по своему выбору состариться в одиночестве.
Вместо описания своей полноценной материнской жизни Цветаева вместо этого предпочитает изобразить в эссе мрачный портрет другой жизни: престарелой лесбиянки, одинокой и обреченной по своему выбору состариться в одиночестве.
Другой! Давайте подумаем о ней. Остров. Вечно изолированные. . . Вечно проигрывать единственную игру, которая имеет значение — единственную игру, которая существует. Ненавистный. Изгнанные. Проклятый.
В другом отрывке заметки Цветаева отмечает, что, хотя теоретически женщина может бросить и любовницу-лесбиянку, и бесплодного мужчину из-за одной и той же неспособности обеспечить ребенка, случаи по своей сути различны.
Исключительный случай [бесплодный мужчина] не может сравниться с законом без исключения. Вся раса, все дело, все дело обречены, когда женщины любят друг друга.
Оставить бесплодного мужчину ради его плодородного брата — это не то же самое, что оставить вечно бесплодную любовь вечно бесплодному врагу.
В первом случае я прощаюсь с мужчиной; в последнем — всей расе, всему делу, всем женщинам в одной.
Для изменения только объекта. Менять берега и миры.
Цветаевой хочется верить, что она не расставалась с Парнок. Она порвала с женщинами, и точка. Но под обширным и несколько оборонительным объяснением Цветаевой своих действий скрывается скрытое сожаление.
Эссе также предлагает поэтическую защиту репрессий. Цветаева хвалит сдерживание себя, утверждая, что на подавление требуется больше энергии и сил, чем на изгнание.
. . . управление силой требует гораздо более ожесточенных усилий, чем ее высвобождение, для чего вообще не требуется никаких усилий. В этом смысле всякая природная деятельность пассивна, а всякая волевая пассивность активна (излияние — выносливость, вытеснение — действие). Что труднее: удержать лошадь или дать ей побежать?
Кого на самом деле пытается убедить Цветаева? Натали Клиффорд Барни непоколебима в своей любви к лесбиянству — уж точно Цветаева ее не переубедит. Парнок мертв в конце эссе. Тут Цветаева пытается себя убедить. Тот факт, что она излагает такое дело в течение двух лет, через двадцать лет после закрытия романа, свидетельствует о силе ее времени с Парнок.
Парнок мертв в конце эссе. Тут Цветаева пытается себя убедить. Тот факт, что она излагает такое дело в течение двух лет, через двадцать лет после закрытия романа, свидетельствует о силе ее времени с Парнок.
Очерк, близящийся к концу, предлагает читателю этот образ горы.
Роковая и естественная склонность горы к долине, потока к озеру.
К вечеру гора полностью стекает к своей вершине. Когда наступает ночь, это пик. Кажется, что его потоки текут вспять. Ночью она берет себя в руки.
Здесь «роковая и естественная тенденция» — пожизненное лесбиянство и, по рассуждению Цветаевой, его одинокая бездетность. Лесбийство — это движение вниз — «гора за долину». Но Цветаева «собирается» течь назад, вверх, гора возвращается в исправленное состояние.
Гора — повторяющийся личный символ Цветаевой. В 1926 году Цветаева писала Борису Пастернаку о своем ярко выраженном дискомфорте от океана и о том, что предпочитает горы. В этом письме она, возможно, дает нам невольное проникновение в мысли, которые могут частично пролить свет на Письмо Амазонке .
Но есть одно но, Борис: я не люблю море. Не могу этого вынести. Огромное пространство и не по чему ходить — это одно. В постоянном движении и я могу только смотреть на это — это другое. . . А море ночью? — холодный, ужасающий, невидимый, нелюбящий, наполненный собой. . . Море никогда чувствует холод, он есть холод — это все его ужасные черты. Они суть его. . . Чудовищное блюдце . Квартира, Борис. Огромная плоскодонная люлька, каждую минуту выбрасывающая младенца (кораблик). Его нельзя ласкать (слишком мокрый). Ему нельзя поклоняться (слишком ужасно). . . .Море — это диктатура, Борис.
Гора — это дикость. У горы много сторон. . . В горе есть ручейки, гнезда, игры. Гора — это прежде всего то, на чем я стою , Борис. Моя точная стоимость.
Гетеронормативный жизненный выбор Цветаевой – ее стабильность? Море постоянно меняющееся, непостоянное, холодное. Не только бездетный, но и «выбрасывающий младенца». . . каждую минуту.»
. . каждую минуту.»
Цветаева утверждает, что на подавление чувства уходит больше энергии, чем на его изгнание. Она предпочитает ребенка любовнику, который не может родить ее. Она предпочитает гору морю.
Эмма Браун Сандерс — поэтесса, работающая в академическом издательстве. Вы можете найти ее на сайте brownsanders.tumblr.com.
Твитнуть
Станьте покровителем!
Этот пост может содержать партнерские ссылки.
Кафе Марины Цветаевой «Славия», Прага, Чехия
Архитектура
russianmonuments 2 комментария
Щелкните фото для увеличения .
Редко так делаю, но опять лажу. Я не делал эти фотографии. Моя жена Оксана Мысина так и сделала, когда недавно была в Праге на съемках документального фильма о великой русской поэтессе Марине Цветаевой.
Цветаева (1892-1941) большую часть 1922-1925 годов провела в Чехословакии. По общему мнению, она любила эту страну и ее столицу Прагу и очень скучала по ней, когда ей пришлось ее покинуть. В то же время жизнь здесь никогда не была легкой. Ее семейная жизнь подвергалась огромному стрессу, и ей почти не на что было жить. Она приехала в Чехословакию, чтобы быть со своим мужем Сергеем Эфроном, бывшим солдатом белой армии, которого, как она думала, когда-то убили на Гражданской войне и который собирался поступить в Карлов университет в Праге. Но у них практически не было денег и жили они, в лучшем случае, впроголодь.
По общему мнению, она любила эту страну и ее столицу Прагу и очень скучала по ней, когда ей пришлось ее покинуть. В то же время жизнь здесь никогда не была легкой. Ее семейная жизнь подвергалась огромному стрессу, и ей почти не на что было жить. Она приехала в Чехословакию, чтобы быть со своим мужем Сергеем Эфроном, бывшим солдатом белой армии, которого, как она думала, когда-то убили на Гражданской войне и который собирался поступить в Карлов университет в Праге. Но у них практически не было денег и жили они, в лучшем случае, впроголодь.
У Цветаевой было ищущее сердце, и, борясь за выживание с мужем и дочерью Ариадной, она ввязалась в широко разрекламированный роман с бывшим военным Константином Родзевичем. После того, как это закончилось в 1923 году, у нее начался эпистолярный роман с Борисом Пастернаком. Хотя на самом деле они не встречались до 1935 года в Париже, пик их эпистолярных отношений сделал их одним из самых известных любовных романов, объединивших русских писателей. На всякий случай немецкий поэт Райнер Мария Рильке также ненадолго стал частью этих отношений, поскольку все они обменивались мыслями, стихами и эмоциональными устремлениями в оживленной переписке, которая внезапно оборвалась со смертью Рильке в 1919 году.26.
На всякий случай немецкий поэт Райнер Мария Рильке также ненадолго стал частью этих отношений, поскольку все они обменивались мыслями, стихами и эмоциональными устремлениями в оживленной переписке, которая внезапно оборвалась со смертью Рильке в 1919 году.26.
Моя подруга и коллега Александра Смит выложила, похоже, текст Анастасии Копршивовой, который настолько хорошо описывает подробности этого периода, что я просто перехожу к нему:
« В самой Праге Цветаева прожила меньше года. года, с осени 1923 по весну 1924. В столице Эфрон поселился в чердачной комнате в районе Смихова на Шведской улице в доме № 51, на стене которого в 1989 году была открыта мемориальная доска, посвященная поэтессе. Вспоминая об этом В квартире Цветаева писала: «У меня в Праге прекрасные большие окна, открывающие весь город и все небо, улицы с их лестницами, дали, поезда и туман» 9 .0004
Марина Цветаева ежедневно посещала места, кишащие русской эмиграцией, центром которых была церковь св. Николая на Староместской площади и гостиница Беранек (Белеградская, 110, Тылово нам.). В просторных залах гостиницы устраивались культурные вечера Чешско-российской ассоциации во главе с Анной Тесковой, ставшей впоследствии самым близким и верным другом Цветаевой. В письмах к Тесковой из Франции в Чехословакию Цветаева подробно писала о своем увлечении Прагой. Их переписка длилась почти десять лет, с 19с 25 по 1939 год и навсегда прервалась после возвращения семьи Эфронов в СССР.
Николая на Староместской площади и гостиница Беранек (Белеградская, 110, Тылово нам.). В просторных залах гостиницы устраивались культурные вечера Чешско-российской ассоциации во главе с Анной Тесковой, ставшей впоследствии самым близким и верным другом Цветаевой. В письмах к Тесковой из Франции в Чехословакию Цветаева подробно писала о своем увлечении Прагой. Их переписка длилась почти десять лет, с 19с 25 по 1939 год и навсегда прервалась после возвращения семьи Эфронов в СССР.
Марина Цветаева любила долгие прогулки, Прагу мерила своими шагами. В письмах к Тесковой она часто вспоминает Оленью впадину у Пражского Града, называя ее Медвежьей впадиной в честь живших там сибирских медведей. Она любила бродить по тропинкам Петржинского холма, который напоминал ей «грудь новобранца, поверженного снарядом», часами любовалась городскими скверами, морем с посеревших, обветшалых крыш и наблюдала за излучины реки Влтавы с ее островами.
Она любила черно-белые булыжники тротуаров, похожие на шахматную доску, по которой невидимая рука судьбы переставляла людей, как пешек – «как кто-то играет в нас». атмосфера тайн и загадок. Она любила Карлов мост. Там, на берегу Влтавы, ее всегда ждал памятник Брунцвику, рыцарю с золотым мечом и такой же прической, как у нее. В 30-х годах в письме к Анне Тесковой Цветаева просила ее прислать в Париж фотографии «моего рыцаря», общий вид города и «море крыш с пражскими мостами» 9.0004
атмосфера тайн и загадок. Она любила Карлов мост. Там, на берегу Влтавы, ее всегда ждал памятник Брунцвику, рыцарю с золотым мечом и такой же прической, как у нее. В 30-х годах в письме к Анне Тесковой Цветаева просила ее прислать в Париж фотографии «моего рыцаря», общий вид города и «море крыш с пражскими мостами» 9.0004
Пражский период остается одним из самых ярких в творчестве Цветаевой. На протяжении всех последующих лет поэтесса бережно хранила в памяти любимый город ».
Помимо упомянутых выше мест, еще одним любимым местом Цветаевой в Праге было кафе «Славия». У нее часто были причины бывать в этом районе, потому что рядом находилась редакция русского эмигрантского журнала «Воля России ». Цветаева часто публиковала свои стихи в этом издании, которое редактировал известный эмигрантский литератор Марк Слоним (часто пишется по-английски как Марк). Сообщается, что Цветаева, у которой не было лишних денег на роскошь популярного кафе, часто брала всего лишь стакан воды и часами сидела здесь, сочиняя стихи. Само здание датируется 14 веком. С 1881 года в нем находится знаменитое кафе «Славия». Даже сегодня в этом месте легко увидеть романтизм и очарование старины. Можно предположить, что здесь мало что изменилось с тех пор, как Цветаева была завсегдатаем. одно дело изменено на — это знаменитая картина, висящая на задней стене кафе. Сегодня мы видим копию « Любительницы абсента» Виктора Оливы , тогда как во времена Цветаевой в этом пространстве была картина Славия, мать славян. (Эта картина, несмотря на протесты пражан, в 1997 году была перенесена в пражскую художественную галерею.)
Само здание датируется 14 веком. С 1881 года в нем находится знаменитое кафе «Славия». Даже сегодня в этом месте легко увидеть романтизм и очарование старины. Можно предположить, что здесь мало что изменилось с тех пор, как Цветаева была завсегдатаем. одно дело изменено на — это знаменитая картина, висящая на задней стене кафе. Сегодня мы видим копию « Любительницы абсента» Виктора Оливы , тогда как во времена Цветаевой в этом пространстве была картина Славия, мать славян. (Эта картина, несмотря на протесты пражан, в 1997 году была перенесена в пражскую художественную галерею.)
Почти с самого начала «Славия» была пристанищем художников и ремесленников. Он расположен на набережной Сметаны, прямо напротив Национального театра и прямо на берегу Влтавы. По легенде, в первые годы работы кафе завсегдатаем великого чешского композитора Бедржиха Сметаны, а в последующие десятилетия его также посещали писатель, ставший президентом, Вацлав Гавел, поэты Иржи Коларж и Ярослав Зайферт, а также художник-символист Ян Зрзави. Наверняка Цветаева была не единственной русской эмигранткой, проводившей здесь время в XIX веке.20-х годов, хотя мне еще предстоит найти записи других.
Наверняка Цветаева была не единственной русской эмигранткой, проводившей здесь время в XIX веке.20-х годов, хотя мне еще предстоит найти записи других.
Нравится:
Нравится Загрузка…
Борис ПастернакМарина ЦветаеваМарк СлонимОксана Мысина Ищи:Введите адрес электронной почты, чтобы подписаться на этот блог и получать уведомления о новых сообщениях по электронной почте.
Адрес электронной почты:
Присоединяйтесь к 112 другим подписчикам
Следите за русской культурой в Достопримечательности на WordPress.comДля этого слайд-шоу требуется JavaScript.
Цветаева Марина Ивановна (1892-1941) — Памятник «Найди могилу»
Мемориал успешно обновлен.
Да, больше никакой рекламы! Мемориал был успешно спонсирован.
Ваши предложения отправлены и будут рассмотрены менеджером мемориала.
Ваше редактирование не содержит изменений по сравнению с оригиналом.

Спасибо! Предложенное вами слияние отправлено на рассмотрение.
Теперь вы являетесь управляющим этого мемориала.
Спасибо за помощь в поиске могилы!
Запрос фото успешно отправлен.
Запрос на фотографию успешно удален.
Не удалось удалить запрос на фото. Попробуйте позже.
Мемориал успешно передан
Как менеджер этого мемориала вы можете добавить или обновить мемориал, используя Изменить кнопку ниже. Узнайте больше об управлении мемориалом .
Запрос на фотографию выполнен.
Вы уверены, что хотите сообщить администраторам об этом цветке как оскорбительном или оскорбительном?
Об этом цветке было сообщено, и он не будет отображаться во время проверки.
Не удалось сообщить о цветке. Попробуйте позже.
Вы уверены, что хотите удалить этот цветок?
Не удалось удалить цветок. Попробуйте позже.
Попробуйте позже.
Вы уверены, что хотите удалить этот мемориал?
Не удалось удалить мемориал. Попробуйте позже.
- Проблема #index#:
- Детали:
- Сообщил:
- Сообщено:
При удалении этой проблемы произошла ошибка. Попробуйте позже.
Проблема:
Управление кладбища не имеет записей об этом человеке Управление кладбища подтвердило, что это захоронение не опознаноЯ обыскал все кладбище и не смог найти могилуЯ обыскал указанный участок или участок и не смог найти могилуЭто захоронение находится в частной собственности или иным образом недоступенДругая проблема
Пожалуйста, выберите проблему
Детали:
Как вы думаете, какой мемориал является копией Марина Цветаева (9123509)?
Мы рассмотрим мемориалы и решим, следует ли их объединить. Узнайте больше о слияниях .
Узнайте больше о слияниях .
ID мемориала
Недействительный мемориал
Пожалуйста, введите действительный ID мемориала
Вы не можете объединить мемориал сам с собой
Мемориал уже объединен
Мемориал уже удален
Вы уверены, что хотите удалить это фото?
Не удалось удалить фото. Попробуйте позже.
ЗакрыватьДобро пожаловать на страницу мемориала «Найди могилу»
Узнайте, как максимально использовать мемориал.
или больше не показывай — я хорошо разбираюсь во всем
Фотография на обложке и важная информация
Быстро узнайте, кому посвящен мемориал, когда они жили и умерли и где похоронены.
Фотографии
Для мемориалов с более чем одной фотографией дополнительные фотографии появятся здесь или на вкладке фотографий.
Фото Вкладка
Все фотографии отображаются на этой вкладке, и здесь вы можете изменить порядок сортировки фотографий на памятниках, которыми вы управляете. Чтобы просмотреть фотографию более подробно или отредактировать подписи к фотографиям, которые вы добавили, щелкните фотографию, чтобы открыть средство просмотра фотографий.
Чтобы просмотреть фотографию более подробно или отредактировать подписи к фотографиям, которые вы добавили, щелкните фотографию, чтобы открыть средство просмотра фотографий.
Цветы
Цветы, добавленные к мемориалу, отображаются внизу мемориала или здесь, на вкладке Цветы. Чтобы добавить цветок, нажмите кнопку Оставить цветок .
Члены семьи
Здесь будут отображаться члены семьи, связанные с этим человеком.
Связанные поиски
Используйте ссылки под Подробнее… для быстрого поиска других людей с такой же фамилией на том же кладбище, в городе, районе и т. д.
Поддержите этот мемориал
Удалите рекламу с мемориала, спонсировав его всего за 5 долларов. Мемориалы, ранее спонсируемые или известные мемориалы, не будут иметь этой опции.
Поделиться
Поделитесь этим мемориалом в социальных сетях или по электронной почте.
Сохранить в
Сохранить в Древе предков, на виртуальном кладбище, в буфер обмена для вставки или печати.
Изменить или предложить изменить
Изменить мемориал, которым вы управляете, или предложить изменения менеджеру мемориала.
Есть отзыв
Спасибо за использование Find a Grave, если у вас есть какие-либо отзывы, мы будем рады услышать от вас.
Оставить отзыв
1 фото выбрано…
2 фото выбрано…
Превышен размер
Вы не можете больше загружать фотографии на этот мемориал
«Неподдерживаемый тип файла»
Загрузка…
Ожидание…
Успешно
Ошибка
Это фото не было загружено, потому что в этом мемориале уже есть 20 фотографий
Это фото не было загружено, потому что у вас уже есть Загрузил 5 фотографий в этот мемориал
Неверный тип файла
Загружается 1 Фото
Загружается 2 Фото
1 Фото Загружено
2 Фото Загружено
Добавил(а)
ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ! На это кладбище есть 1 волонтер .
Извините! На это кладбище нет волонтеров. Продолжение этого запроса добавит оповещение на страницу кладбища, и любые новые добровольцы будут иметь возможность выполнить ваш запрос.
Продолжение этого запроса добавит оповещение на страницу кладбища, и любые новые добровольцы будут иметь возможность выполнить ваш запрос.
Введите числовое значение
Введите идентификатор мемориала
Год не должен быть больше текущего года
Неверный мемориал
Дублирующаяся запись для мемориала
Вы выбрали этого человека в качестве члена своей семьи.
Сообщено!
Эта взаимосвязь невозможна на основе дат продолжительности жизни.
0% Завершено
Добавить заголовок Сохранено
Выберите тип фотоМогила
Лицо
Семья
Другое
Сохранено Требуется Javascript: К сожалению, Find a Grave не работает должным образом без включенного JavaScript. Вам нужно будет включить Javascript, изменив настройки браузера. Научитесь включать это.
 Пастернака Ариадне Эфрон.
Пастернака Ариадне Эфрон.